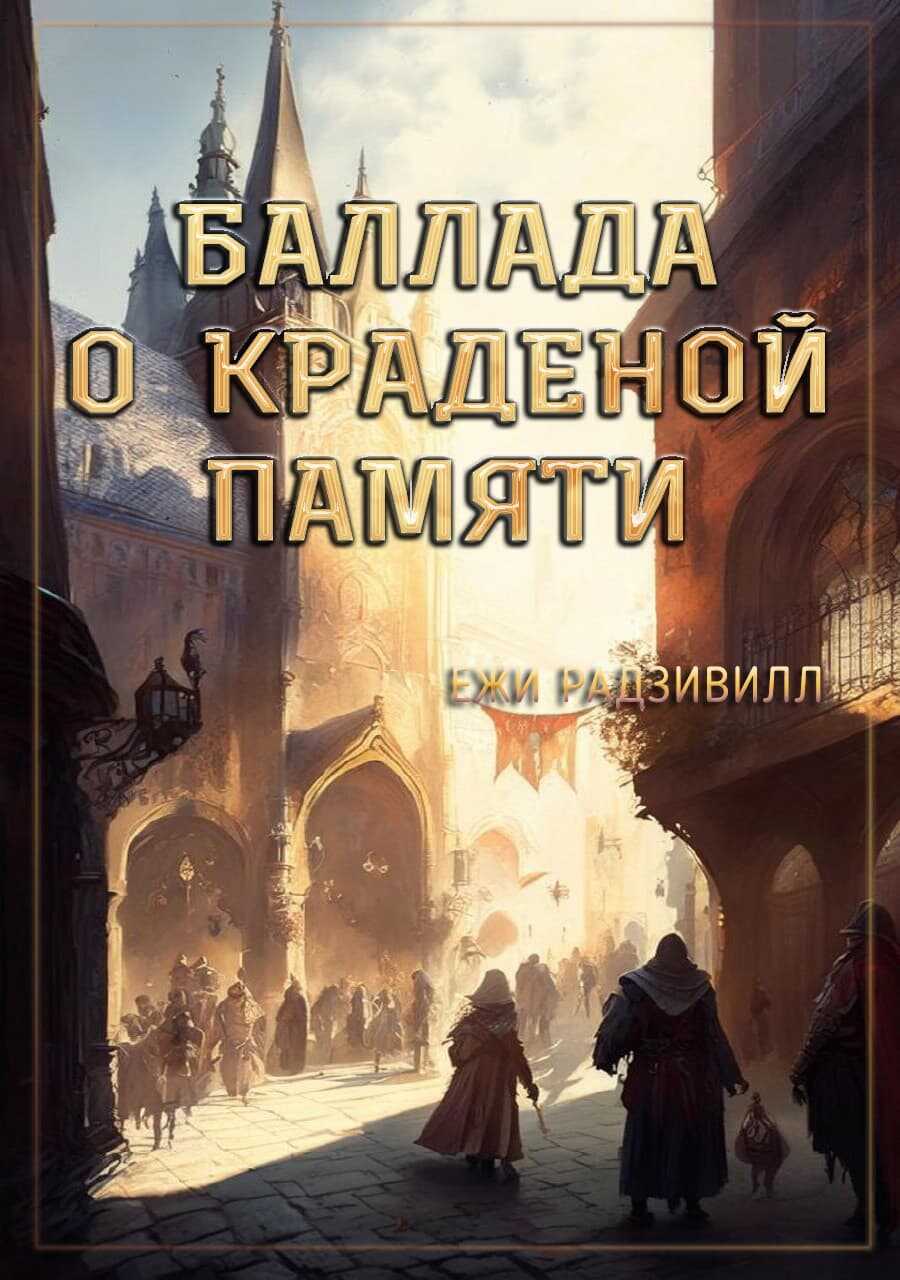завитком, —
лишь тому приоткроется рядом —
одиночество розы, куста одиночество, сада.
Одиночество города — ужас его и блокада, —
одиночество родины в неком пространстве пустом.
Весна 1971
Пир
Жирных цветов ярко-красные рты
влагу прозрачную взгляда
жадно пригубили — не отстранить.
Что же ты, зренье, не радо,
что же не счастливо ты
самой возможностью жить?
Я не смотрю, и опущены веки.
Багровые тени мелькают
хищными вспышками тьмы.
Даже и в памяти не отпускают
кровососущие губы — навеки
жертвы цветов шевелящихся мы.
Преображение в красноголовых,
в отяжеляющих стебли свои
болью и жизнью чужой —
самая чистая форма любви,
освобожденной от жеста и слова,
тела земного, души неземной.
Нечему слиться и не с чем сливаться!
Есть обращение виденья в свет,
судорога перехода,
оборотней бесконечное братство,
вечное сестринство — Смерть и Свобода.
Пир человекоцветов.
Сентябрь 1972
* * *
Слышу клекот решетки орлиной,
чудный холод чугунных цветов —
тень их листьев легла — паутина
мне на плечи легла, охватила
словно сетью… Хорош ли улов?
О, как ловит нас на созерцаньи
мир теней. Рыболовная снасть
нам раскинута — очерк ли зданья,
голубой ли решетки мерцанье,
льва ли вечно раскрытая пасть.
Приоткрывшийся зев — о, не здесь ли
вход в подземное царство Шеол,
где бы с шорохом легким воскресли
все цветы из металла и жести,
где бы с хрустом проснулся орел,
но зато где бы я обратился
в неподвижно-бесформенный ком,
в слиток тени — и голос мой слился
с гулом пчел над бездомным цветком…
Весна 1971
* * *
Раздет романтизм до последних пустот.
Что ж дальше, и пальцы проходят свободно
сквозь полую вечность — не так ли, бесплотна,
струится душа и время цветет?
Не там ли, где запах тончайший болот
почти не присутствует в девственных чащах,
где наистерильнейших помыслов наших
почти не касается бремя забот, —
не там ли последний романтик умрет?..
Вода зацвела, застоялась, застыла.
Здесь больше не надо ни воли, ни силы,
ни тайной свободы, ни прочих свобод, —
здесь музыка льется и кровь мою пьет,
как стебель кувшинки, связующий руки,
обвившись вокруг… И, нежданная, в звуке
завяжется боль потому ли, что плод —
в мучительной завязи нового знанья
о мире, до дна оголенном, до срама,
до ямы, до судороги отрицанья…
1970–1971
* * *
Здесь ум живой живет, но полудремлет.
Здесь ящерица-мысль недвижна средь камней.
Лиловый зной как бы лелеет землю —
но влажной лилии мне холода пролей!
Как раскаленная больничная палата,
колеблем воздух, выжженный дотла…
Зима была черна. Весна была чревата.
Прохлада в летний день — прохлада лишь бела.
Лишь белые костры кувшинок над водою
врачуют воспаленно — синий дом…
Я окна затворю, глаза мои закрою, —
но все вокруг костры над мыслимым прудом!
Льдяную чистоту и абсолютность цвета
возможно лишь в болоте уберечь.
Цветы в гнилой воде. В стране моей — поэты.
Гниение и жар, но смертный холод — речь.
Да кабы не сиреневая ряска,
открылся бы, извившись червяком,
тяжелый жирный стебель — наша связка
с начальной жижей дна, с ежеминутным днем.
Лето 1971
Черника
Земную жизнь пройдя до половины…
(Перевод с итальянского)
Земную жизнь пройдя до середины,
споткнулась память. Опрокинулся и замер
лес, погруженный в синеву.
Из опрокинутой корзины
струятся ягоды с туманными глазами,
из глаз скрываются в траву…
Черника-смерть! Твой отсвет голубиный
потерян в россыпях росы, неосязаем
твой привкус сырости, твой призрак наяву.
Но кровоточит мякоть сердцевины —
прилипла к небу, стала голосами,
с какими в памяти раздавленной живу.
Октябрь 1971
* * *
Для неродившейся души что горше похвалы?
что порицания тяжеле?
В нас качеств нет, ни света нет, ни мглы —
лишь брезжит еле-еле
бесформенный комок на острие иглы…
О сердце-бабочка, мы живы ль в самом деле?
Или настолько, сердце, слаб твой однодневный взлет —
слабее крылий трепетанья
прозрачной бабочки, что как бы не живет,
лишь ветра чувствует дыханье?
На беспорядочном пути то крен, то поворот —
не все ль равно? Зачем ей расстоянье?
И ты не спрашивай, зачем летаешь кувырком,
зачем в паденьи угловатом
опору ищешь ты, как будто строишь дом
из воздуха и аромата
расплавленного меда над цветком…
Но крыша, Господи, прозрачна и крылата!
1971
* * *
Блаженна рассеянность в бывшем саду,
и слабая память блаженна…
Оно и прекрасно, что все постепенно
исходит, как пар изо рта, —
и те, кого ждал я, — их больше не жду,
и те, кого помню, — они сокровенны,
как скрыт механизм крепостного моста
под скользкой брусчаткой под именем Бренны.
И мост не подымется больше, и мест,
какие казались людьми,
здесь больше не встречу… И душу возьми,
о сад одинокий мой, крест.
Когда бы собрание просто дерев,
неловкие груды камней —
все было бы легче, и небо светлей —
а не отворившийся зев,
где туч не усмотришь, не то чтобы звезд
или Елисейских полей.
Сентябрь — октябрь 1971
* * *
Кто знает, какой из ничтожных забот,
какой из хозяйственных нужд
обязан духовностью взгляд?
Посмотришь: твой спутник, казалось бы, чужд
обыденной жизни, касаясь, как сад,
ветвями до нежных высот.
Посмотришь: лицо его оживлено
извилистым деревом мысли его,
и внутренне