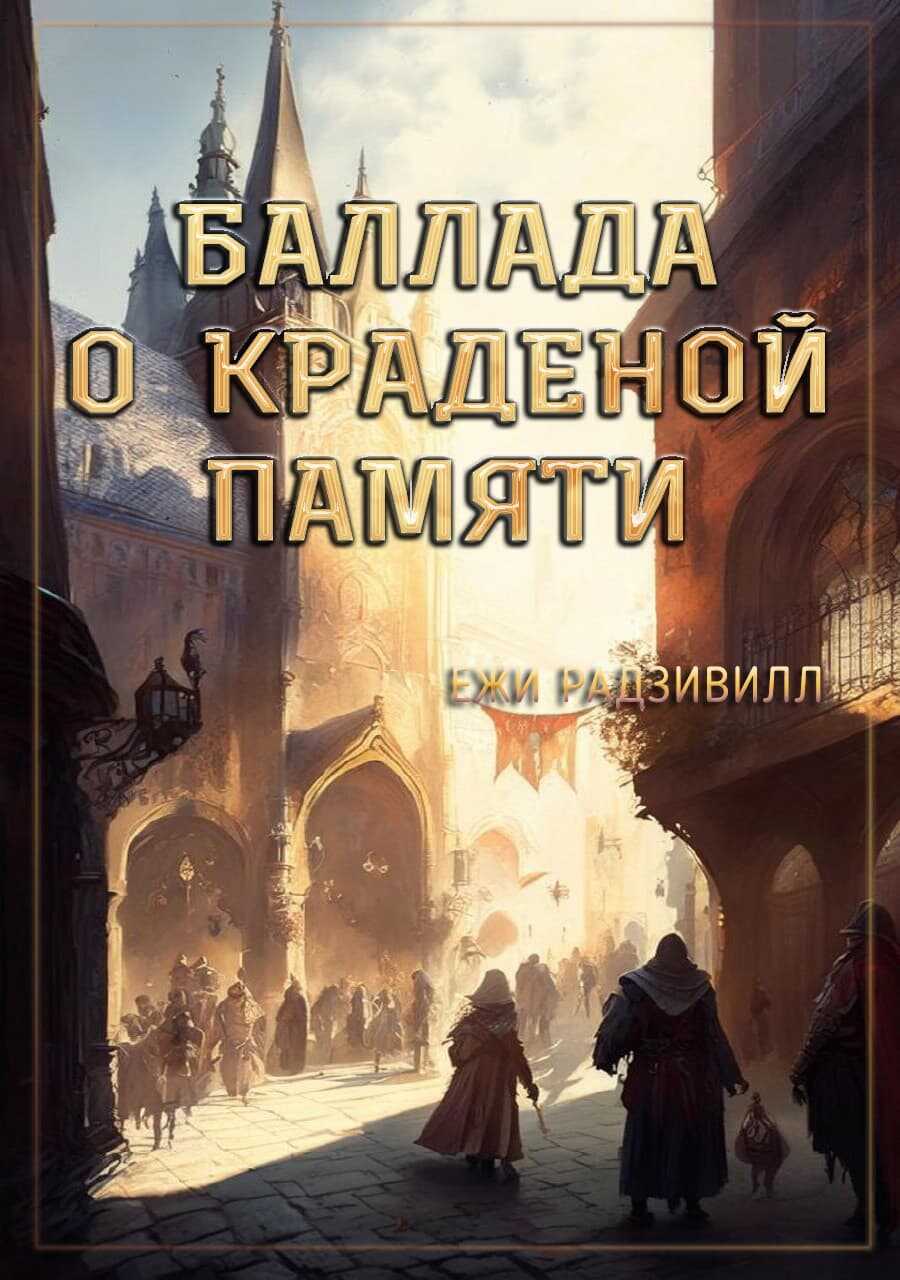листья дрожат —
не путник в троллейбусе, но существо,
рожденное в доме дриад,
глядит на дома и деревья в окно,
скользящие плоско назад.
Посмотришь: глаза его там, на стекле,
наполнены скорбью, текут
почти без причины, почти…
Не спрашивай, что опечалило, — труд
напрасный… А спросишь — прости,
когда промолчит он в ответ.
В томленье попутчика, в муке пути
причины возвышенной нет,
как дереву слова на этой земле,
как мысли, что вьется движенью вослед,
нет силы возвысить униженный бред,
ни дальней дорогой брести.
Май 1972
* * *
Окно заложили. Устроили в нише ковчег
для книг переплетных, для певчей бумаги.
Я, кажется, помню, как медленно реяли маки,
как падал на них ослепительный снег.
Страдание — ты говоришь — это литература,
вживленная в печень прохладой своих проводов.
Но как же я помню страду приношенья плодов,
и жар пожирающий, и черноту смолокура.
О, вязкая тьма, шевелясь, обтекает ступни.
Мне страшно, и струны древесных волокон
смотри как шипят, — посмотри на деревья из окон,
давно упраздненных. Ограда. Брандмауэр. Пни.
На опийном поле я, кажется, плавал собакой,
по зернышкам ночи гремел, отзываясь костьми
на голос Хозяина: вот он я! Весь я! Возьми
для песьего дела, для травли души над бумагой.
Но тихо, и длинно, и не узнавая глядит…
Да! Больше не жду гармонической спайки.
Да, выстрадал жажду молчать и молчать без утайки,
уставясь на пыльный цветок между пальцев твоих.
Ты видишь разрыв между словом и тысячью судеб?
Я вижу: нарцисс высыхает, нарцисс
на стебле высоком так тягостно тянется вниз,
так долго себя сохраняя в надежде и чуде.
Июнь 1974
Комнатное растение
Паранойя цветов. Запрокинуты головы. Пар
лепестки ледяные окутал.
Но проснись проступающим утром,
свесив ноги с простуженных нар, —
в подоконник упрешься, в качанье
черных лопастей-листьев,
над землею замрешь безначальной,
над горшечною глиной повиснув.
Я бы сгрудился в горстке золою,
но смешали с полетом спросонья,
и лечу над горчичной землею,
что горчичник, горю под ладонью.
Ты летишь. Просыпаюсь и комкаю простынь. В окно
входят длинные казни растений.
Я бы — сломанной ветки мгновенней!
Словом, тихо в лечебнице, лампочкой озарено.
Знаешь, божьей травы корневище
так во сне и кричит или с койки
на пол падает, под полом рыщет
и летает, летает. И в лампу, в осколки.
Я бы врос головою в подушку,
с нарастающим кашлем срастился, —
но казенную подать подушно
кто заплатит за чудо российства?
Где горохом и дробью под пятками доски дрожат
и художества холода в окнах,
где надломленный стебель изогнут,
как земля на чужих рубежах, —
только этой, из дыр садоводства,
только бывшей земли шевеленье
согревает халатом сиротства,
пеленает колени шинелью.
Январь 1974
Литургия цветов
Наступает счастье
Плоть цветов усохла
свитые пелены из пепла —
до них невозможно коснуться
Царит вечер цветов
наполненный сухим потрескиванием
и отсутствием запахов
Люди передвигаются стоя
как вазы с цветами-аскетами
Сожаление о них недолго:
все народ спокойный, ко всему привычный
Ровные холмы — дыхание
и движение по гребню в открытом автомобиле
четверо нас
медленно едем
почти не едем
За всю дорогу ничего
вокруг нас не переменяется
Ко мне обращаются
Я отвечаю
Два озера-хранилища тишины
две створки одной раковины
две створки жемчужницы
сближаясь
Я спрашиваю и счастлив слыша не мой голос
Полное достоинства чередование
вопросов и ответов
Голоса ровные, лишены интонации
разговор двух отражающих плоскостей
между ними долго рассыпается
сухая голова астры
Так в пустоте вертятся мягкие колеса
и теплая пыль вращается вокруг солнца
и вокруг нас ничего не переменяется
пока едем
церковьцерковьцерковь
заходим в одну останавливаясь
Здесь собрались неповоротливые большеротые
георгины
грубооранжевые панычи
мальвы
В алтаре — РОЗА
Феокритова роза, не фетовская
Такая, как они были в бытии неокультуренном
отличимая от шиповника
разве хрупкостью материи и дрожью света
вдоль непрерывной дрожащей хрупкой
подвижной
границы лепестков и воздуха
Теокритова роза — не фетовская
Происходит литургия цветов
исповедь цветов
цветов причастие и перерождение
счастливое забвение
ботаники и морфологии
генетики и почвы
Мы стоим и выходим
мы стоим и усаживаемся в автомобиль
мы стоим и мысленно едем по гребню
но по коже наших тел
и по нашей одежде
долго еще плавают
пятна теплого цвета
пятна, чьи очертания подобны материкам
Апрель 1978
* * *
Во дни поминовения минут,
в себя вместивших жизнь десятилетий,
не я шепчу: вернитесь! Это ветер
сухими письмами шуршит, которых не прочтут,
чужими жизнями, которым не ответим…
О, если бы земля прияла их под спуд
и успокоила, — мы знали бы: не встретим
безмолвных лиц и голосов безлицых
во книгах-кладбищах, во дневниках-гробницах.
Во дни, когда во мне заговорят
ушедшие, — но глухо и незряче, — не я отвечу им,
лишь ветер, ветер плачет,
да в горлах жестяных грохочут и хрипят
комки застывших слез — но в таянье горячих…
Во дни, когда тепло войдет в меня, как яд, —
тепло дыханья всех, чей голос был утрачен,
чей опыт пережит, чей беглый высох почерк, —
в такие дни, в такие дни и ночи
я только память их, могильный камень, сад.
Осень 1971
УДК 882-4
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44
К 96
Кушлина О. Б.
Страстоцвет, или Петербургские подоконники. Изд. 2-е, испр. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021.