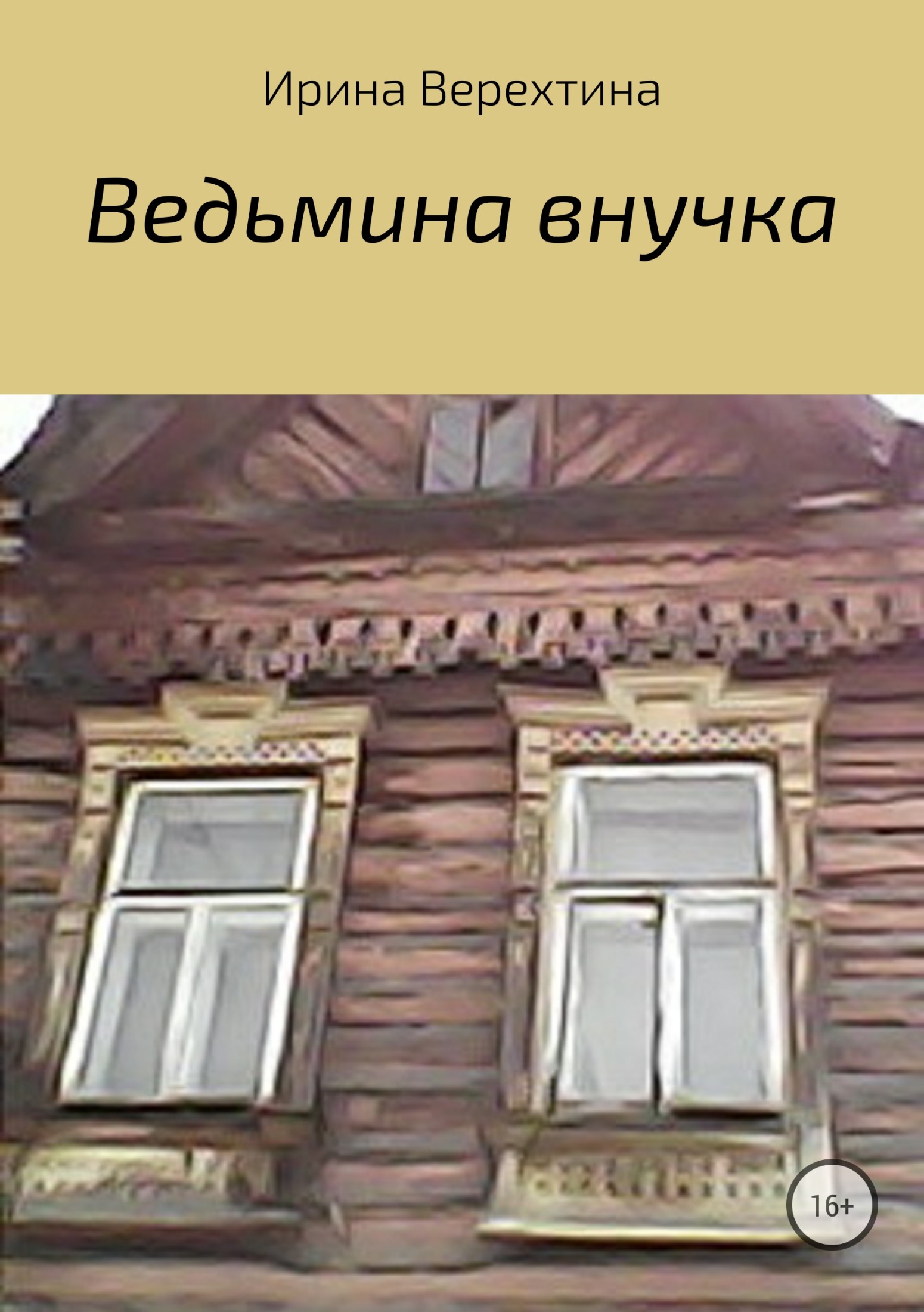казался огромным и загадочным, несмотря на железный занавес, отсутствие Интернета, социальных сетей, иномарок, советскую власть и феодальное устройство семьи, быта и государства.
Да, мы не понимали, что живем при развитом феодализме с его стройной системой хозяев и вассалов; системой, приправленной к тому же фальшивой идеологией со специфическим привкусом азиатчины.
Бедные мы были, молоды, я понимаю…
(Вл. Луговской)
Нет, это я сейчас понимаю, насколько мы были бедны, бедны были наши родители, вкалывающие с утра до вечера за жалкие трудовые копейки и ютившиеся, большей частью, в двухкомнатных (а кому повезет – в трех) клетях.
Я почему-то запомнил маму Иры – усталую женщину, работавшую нянечкой в детском садике; а она, между прочим, поднимала двух дочек; и жили все они в такой же клетушке, как и мы все, подобно одноклеточным существам, запущенным туда с целью какого-то небывалого эксперимента на выживание.
Нет, безусловно, были и те, кто жил в другом мире, кто рос в обеспеченных семьях, ставших обеспеченными в силу разного рода обстоятельств – кто из-за близости к системе, а стало быть – и к кормушке, кто, как тогда считалось, нечестными путями (сегодня они бы назывались предпринимателями), а кто – благодаря нужным профессиям, таким как врачи востребованных специальностей, товароведы, завмаги, ведущие специалисты или военные больших чинов, сгибающиеся под тяжестью выслуги лет, официальные литераторы, стригущие купоны с массовых тиражей.
Кто-то, например, начинал выслуживаться уже в комсомоле, в каком-нибудь комитете молодежных организаций, а затем, благодаря наработанным связям, умело карабкался вверх по иерархической лестнице, а там уже цеплялся мертвой хваткой за перекладину, перекладывая совесть в задний карман, плевал вниз, умудряясь умильно посматривать наверх.
Там, наверху, жизнь была иной, сытной, вольготной, с заграничными поездками, валютой, спецпайками, спецраспределителями и прочими радостями жизни.
Там, внизу, копошился народ, веселый, задорный, нищий.
…Одна моя одноклассница, сохранившая юношеский задор и восторженность до седых волос (кстати, неплохие качества, сам завидую), написала мне: «Почему ты рисуешь все в мрачных красках? Разве ты был несчастлив? Очнись!»…
Я был счастлив своей влюбленностью в Иру Макарову, но я очнулся, осмотревшись вокруг, и, как говорил Александр Радищев, «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвлена стала».
«Мрачные краски», говорите?
Я вижу грузную, усталую женщину, бредущую по улице, она возвращается с работы в детсаду – это мама Ирины; сколько лет ей было тогда? Думаю, что уже мы, нынешние, старше нее, но выглядела она старше нас, сегодняшних.
Думаю, что она была очень доброй и мудрой, но ей было тяжело жить, непросто.
Я не знаю о ней ничего, мне неизвестны подробности ее биографии, но почему-то она осталась в моей памяти – может быть, и потому, что сумела передать своим дочерям, словно эстафету, внутренний свет, отличавший обеих от многих сверстников.
«Ты был просто влюблен и ничего, и никого не видел вокруг», – заметила другая моя одноклассница, будто влюбленность – это шоры на глазах у лошади, плетущейся в одном направлении, не видя иного пути; да, собственно, и влюблен ли был я столь страстно и самозабвенно, чтобы ничего не видеть вокруг?
Я видел, но наивность моя, книжность, романтичность приписывали все это моему собственному непониманию и неумению отделить зерна от плевел; я плавал в этом безудержном море безумия, наслаждаясь шумом волн и не понимая, что за мусор несут эти волны на своих гребнях.
Впрочем, вернусь к одноклассницам (одноклассники почему-то оказались более сдержанными); дальше всех пошла та, что попыталась мне объяснить: я идеализировал Иришу, и воспоминания мои представляют собой невольную аберрацию; стало быть, они ложны.
Эта женщина не просто объясняла мне мои «ложные воспоминания», она кипятилась, словно сводя счеты сорокалетней давности, когда вдруг всплывают, словно со дна морского, какие-то мелочи – за временем покрывшиеся илом, – и эти мелочи сводились к тому, что Ира толкнула ее на переменке и не попросила прощения, увела у нее мальчика, присвоила себе незаслуженно ее заслуги в спорте и ратной учебе или нелестно, несмотря на их тесную дружбу, отозвалась о каких-то ее талантах.
Тут впору мне самому крикнуть: «Очнитесь!»; но я не стал кричать. Да и зачем? Разве можно спорить с прошлым, ставшим – по моему велению и по моему хотению – частью художественного текста, равно как и те, кто волею судьбы был вовлечен в этот тест, благодаря все той же Макаровой?
Возражать теням?
Разговаривать с призраками?
Ира Макарова – тот же призрак, только милый сердцу, пришедший в сны и оставшийся там.
Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг – за него и держись…
Я держусь за этот миг – миг моей первой встречи с Ирой Макаровой после окончания школы, встречи, ставшей последней. Больше встречи не будет, так сложилось. Как в пронзительных строчках моего друга Нижада Вердизаде:
Мое сердце давно стало гаванью,
Куда держат путь корабли.
Твой фрегат столько лет уже в плаванье
Хоть бы раз показался вдали…
Нет, не покажется.
Даже очертаний не видно, даже намека, даже сигнала «SOS»; ось, на которую нанизан сюжет, медленно поворачивается в сторону горизонта, и легкие облака, подобно воспоминаниям, скрывают от меня образ рыжей девочки с веснушками. Время клонится к закату.
У зеркала
…Почему лицо твое маской застыло, мгновенным фотографическим снимком? Не слишком ли плата высока за всю твою жизнь, что лишила тебя мимики, теплой улыбки, возможности принимать мир таким как есть – пестрым, веселым и разным?
Может, вопрос этот покажется злым, неразборчивым, праздным – только лицо твое замерло, словно стоп-кадр из старой, истершейся ленты…
…Птицей стремительно падают подстреленные аплодисменты…
И все-таки так выпускают птицу…
…И все-таки так выпускают птицу… Так мчатся прочь испуганные лани… Я допишу заветную страницу моих – увы – неназванных желаний. Там будет все: твое дыханье, руки, и птица на плече, и крыльев очерк, там будут сладких песнопений муки, привычной страсти непривычный почерк. Там будет трепет сердца, память ночи, там будет мир, объявленный волною, там время жажды будет тем короче, чем расстоянье меж тобой и мною. От долгого, как долгий дождь, проклятья так непрочны распавшиеся звенья. И вот ты избавляешься от платья, как будто в этом радость избавленья, а может, это счастье сонной лени, и чувства, словно камешки, бросая, идешь ко мне ты в этот час