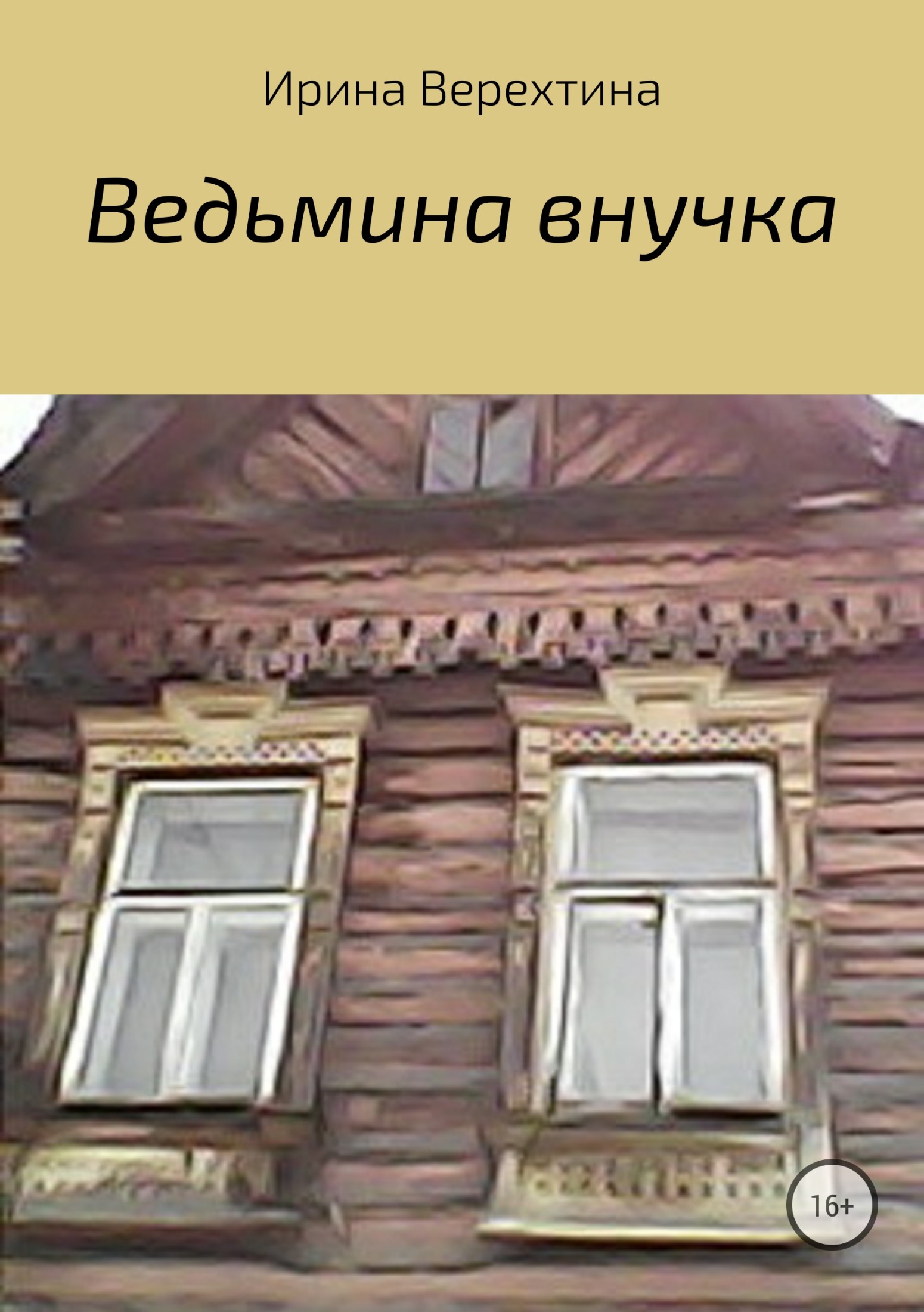разорвет ее на части.
Не оставившая ни следа…
Слеза дождя, скатившаяся по лицу неба, небылица, позабытая рассказчиком, раскачивающиеся качели, на которых давно уже никого нет, словно их качнули и оставили, не дождавшись, пока они остановятся, и они, поскрипывая, медленно прекращают свой бег, – вот и все, что вы хотели знать о Макаровой Ире, и неизвестно, хотела бы она что-то знать про вас, а если что и хотела, то вряд ли скажет, – так и плывет по реке жизни утлая лодчонка с надписью на борту – «Ир-Ma»; и кто ее видит? Кто тоскует по ней?
Попытка объясниться…
О чем шумите вы?!..
А. Пушкин. Клеветникам России
…Эти люди комментируют мои строки отменно – на «ять», одни пишут в «личку», другие – открыто, продолжая по-прежнему меня отождествлять с лирическим моим героем. «Что ж, входите, открыто! Потопчитесь, пожалуйста, на том, что обида гложет меня, и в лицо мне швыряйте язвительные ваши речи, расскажите, что строчки мои – это та же фигня, а значит, следует меня незамедлительно лишить дара речи…»
Только та, о ком я слагаю строки, входя в поэтический раж, та, которую вы знаете, о которой печетесь денно и нощно, – та давно уже существует как литературный – пардон! – персонаж, как творческий импульс – надежно и мощно, так, что искус поэтический идет за мной по пятам, искушает меня жаждой невысказанного, незаемного слова. Эти люди, которые меня критикуют, не понимают, что я давно уже там – где не властны обиды, где есть место для азартного, смутного лова, если можешь, слови этот внутренний голос, поэт, переплавь его в жаркие, желчные, жесткие строки. Не печальтесь, друзья, до реальной особы мне дела особого нет, и куда интереснее, поверьте, как вода шумит в водостоке, и как солнце встает на востоке надменно, упрямо – с утра, и как ветви свои мне роняет на плечи плакучая ива, и дорога, как пестрая лента, сбегает лениво, а реальная жизнь этой женщины давно происходит под знаком утрат…
О чем я думаю?
Я думаю об Ирише, приходя к выводу, что главный ее талант, как мне кажется, заключался в умении… быть человеком.
А еще я думаю о том, что агрессивные люди, как правило, бездарны.
Или – наоборот: бездарные люди, как правило, агрессивны, так точнее.
Причем их агрессия может быть направлена на кого угодно, но только не на самих себя.
Это своего рода «замещение», нападение, как защита, не дай Бог, чтобы не заметили отсутствие таланта или внутреннюю ущербность.
«Кто не с нами, тот против нас», «Если враг не сдается, его уничтожают»… ну и т. д. – это все из одного арсенала.
Так бездарная актриса, которая за всю свою жизнь в лучшем случае сыграла шум толпы за сценой или кролика в детском спектакле, рядится в тогу страстного обличителя, борца за права секс-меньшинств или противника сыроедения.
Так бездарный инженер становится агрессивным политиком.
Так графоман мнит себя талантом, размахивая перед лицом перепуганного читателя всеми ста томами своих партийных книжек, изданных за свой счет.
Агрессия начинается тогда, когда существуют два мнения: мое собственное и остальное – неправое, неправильное.
Там, где начинается агрессия, разум в бессилии отступает.
Мольба
…Подожди – прошу тебя! – не уходи, обними меня горячими руками, говори слова нежные или молчи безмятежно. Знаешь: это порой происходит, когда вдруг настигает безмолвие, но только не как наказание, а как наслаждение – высшее из всех наслаждений, что нам доступно. И тогда понимаешь, что говорить – преступно, что речь обманна, нарочита и не нужна. И тогда наступает нирвана, и тогда страсть нежна, а молчание обволакивает, как кокон, и хочется время продлить, и льется солнечный свет из окон, и хочется Бога молить…
Пожирающее пламя
Время, время, жестокий извозчик, неумолимо погоняющий годы хлестким своим кнутом.
И – глядишь – резвые прежде лошадки, рысью прежде летевшие, молнией, грозным скоком, замедляют скорость, начинают задыхаться, сбивать ход, просить пощады, передышки, остановки, но…
Но по-прежнему свищет кнут, беспощаден возница, и спасения нет.
Разве только внезапная, запоздалая любовь, поздняя страсть, отсрочит безжалостный приговор, но это, увы, всего лишь жалкая надежда.
Может быть, именно потому убеленные сединами мужи хватаются за нее, как за соломинку, и ищут забвения в объятиях легкокрылых юниц?
Чуткий Тютчев четко обозначил эту проблему:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Но это отнюдь не благодатный свет; скорее, это пожирающее пламя.
Прошлое
Прошлое – это та же самая воронка, в которой, как ни вглядывайся, ты все равно не увидишь дна. Знаешь, почему ты постоянно одна? Потому что сердце подсказывало: «Не проворонь-ка!»
А разум считал это все притворством, если не воровством; твердил про чудачество, неправду и блажь – самую нелепую из всех поклаж, которая, нет, не обеспечивается упорством, а значит, она никому не нужна: сбросить ее, снять тяжесть с сердца, как бесполезный и лишний груз, избавиться от ненужных тебе уз под предлогом: мол, какого рожна, когда можно подороже продаться, чтобы не любить, а выжить и стать успешной, будто банковский счет.
…Короче, с чувством произведен расчет, за который тебе перед Богом не оправдаться…
Первая встреча, последняя встреча
Мы стояли возле школы.
– Почему ты не ответила на мое письмо? – спросил я Иру.
– Зачем? Ты же сам обо всем в нем написал, – ответила она.
Это была первая наша встреча через десять лет после окончания школы.
Ира по-прежнему жила в Баку, а я недавно перебрался в другой город, с которым успел сродниться настолько, что не мыслил себе существования без него.
Изредка, летом, я приезжал, чтобы повидаться с родными.
К моменту нашей встречи моему сыну, который лежал сейчас в коляске, мирно посапывая, исполнился год.
– Ты же сам все написал… – повторила Ира.
И – радостно – в этот момент, словно кем-то шуганутые, слетела с проводов стая воробьев, рассыпавшись многоточием по распростертому над нами небу – чистому, как лист так и не написанного романа.
Разве мы знали, что нас ждет?
Разве мы думали о будущем? Беспечные, как те же воробьи, мы кружили в пространстве нашей жизни, не замечая порой, что происходит вокруг. Мир