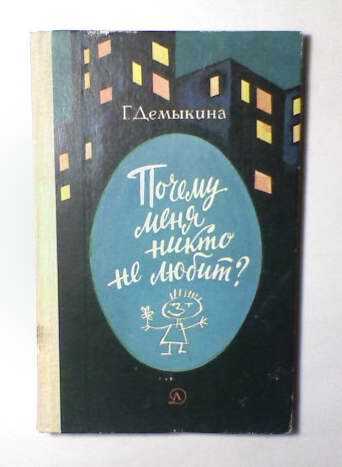давненько открыта. И еще в эпоху Серафино один, считавший себя величайшим, поэт писал: «Если бы я не боялся смутить воздух вашей скромности золотым облаком почестей, я не мог бы удержаться от того, чтобы не убрать окна здания славы теми светлыми одеждами, которыми руки похвалы украшают спину имен, даруемых созданиям проходным…» (из письма Пиетро Аретино к герцогине Урбинской). «Руки похвалы» и «спина имен» — это ли не имажинизм?
[405]
Отличное и острое средство — image — стало целью, телега потащила коня.
Пролетарские писатели и поэты — усердно пытаются быть авиаторами, оседлав паровоз. Паровоз пыхтит искренне и старательно, но непохоже, чтобы он поднялся на воздух. За малыми исключениями (вроде Михаила Волкова в московской «Кузнице») — у всех пролеткультцев революционнейшее содержание и реакционнейшая форма. Пролеткультское искусство — пока шаг назад, к шестидесятым годам.
И я боюсь — аэропланы, из числа юрких, всегда будут обгонять честные паровозы и, «притаившись под эгидой свободы, похищать ее именем мимолетное торжество».
К счастью, у масс — чутье тоньше, чем думают. И поэтому торжество юрких — только мимолетно. Так мимолетно было торжество футуристов. Так же мимолетно проторжествовал Клюев, после патриотических стихов о подлом Вильгельме — восторгавшийся «окриком в декретах» и пулеметом (восхитительная рифма: пулемет — мед!). И, кажется, не торжествовал даже мимолетно Городецкий: на вечере в Думском зале он был принят холодно, а на его вечер в Доме Искусства — не пришло и десяти человек.
А неюркие молчат. Два года тому назад пробило «Двенадцать» Блока — и с последним, двенадцатым, ударом Блок замолчал. Еле замеченные — давно уже — промчались по темным, бестрамвайным улицам «Скифы». Одиноко белеют в темном вчера прошлогодние «Записки мечтателя» Алконоста. И мы слышим, как жалуется там Андрей Белый: «Обстоятельства жизни — рвут на части: автор подчас падает под бременем работы, ему чуждой; он месяцами не имеет возможности сосредоточиться и окончить недописанную Фразу. Часто за это время перед автором вставал вопрос, иужен ли он кому-нибудь, то есть нужен ли «Петербург», «Серебряный Голубь»? Может быть, автор нужен, как учитель «стиховедения»? Если бы это было так, автор немедленно положил бы перо и старался бы найти себе место среди чистильщиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу сурчатами литературной деятельности…»
Да, это одна из причин молчания подлинной литературы.
Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни — в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во «Всемирной Литературе», несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; техов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить — жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей,
[406]
— Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре «Ревизора» Тургеневу каждые два месяца по трое «Отцов и детей» Чехову — в месяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры Труд художника слова, медленно и мучительно-радостно «воплощающего свои замыслы в бронзе», и труд словоблуда работа Чехова и работа Брешко-Брешковского, — теперь расцениваются одинаково: на аршины, на листы. И перед писателем — выбор: или стать Брешко-Брешковским — или замолчать. Для писателя, для поэта настоящего выбор ясен.
Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. И не в бумаге дело: главная причина молчания — не хлебная и не бумажная, а гораздо тяжелее, прочнее, железней. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло.
Пытающиеся строить в наше необычайное время новую культуру часто обращают взоры далеко назад: к стадиону, к театру, к играм афинского демоса. Ретроспекция правильная. Но не надо забывать, что афинская а' yopà — афинский народ — умел слушать не только оды: он не боялся и жестоких бичей Аристофана. А мы… где нам думать об Аристофане, когда даже невиннейший «Работяга Словотеков» Горького снимается с репертуара, дабы охранить от соблазна этого малого несмышленыша — демос российский!
Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, по не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоя литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от как то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь я боюсь, что у русской литературы одно только будущее прошлое.
1921
Сурчатами = суррогатами. Не вношу эту пошлую правку по справедливому настоянию roman_shmarakov
а' yopà — Он написал по-гречески: ἀγορὰ. А уж набрали как смогли. как нам прекрасно уточняет platonicus
Извините, если кого обидел.
04 апреля 2011
История про юмор
Заговорили о юморе, и я заметил, что интересно было бы почитать книгу «История юмора». Я даже представляю себе издание — «Новое литературное обозрение», в серии между «Ароматы и запахи в культуре» и «История вилки».
Но, кажется, такой книги пока нет, а процессы, что происходят сейчас в смеховой культуре. Стремительны. Недавно мне жаловались, на то что молодые люди не знают радио Чипльдук — тем более, оно сейчас закрывается из-за недостатка средств. Молодые люди спрашивали, кто такой Кнышев.
Это история, трагическая вдвойне — с учётом того, что Кнышев несколько месяцев назад показал труды дел своих по телевизору. Это была такая попытка вернуться, что называлась «Дуплькич, или рычание ягнят».
Многие любили Кнышева и за это, ностальгия или цеховое чувства святы, ворону Кнышеву другие птицы глаз не выклюют.
Но я-то Человек-Северная-Корея, а изгоям ничего не страшно.
Страшно было, правда, немного, когда я это увидел. Дело в том, что «юмор» за последние тридцать лет ушёл очень далеко, ушла далеко сама технология юмора.
А Кнышев сделал чудовищно затянутую передачу, с несмешными шутками (пародию на телевидение, которое давно уже само — пародия). Это ужасно — как если бы сечас на трибуну вышел острослов времён Перестройки с