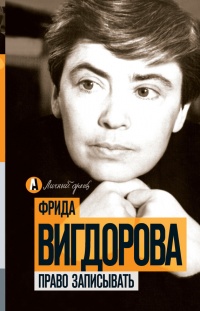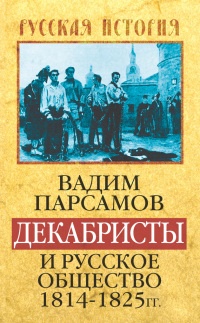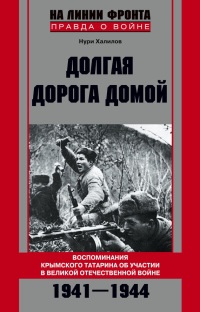Я тогда дала себе слово ни за что и ни при каких обстоятельствах не называть того, кто мне прислал это письмо с предложением подписать его, — имела в виду, конечно, допросы на следствии, потому что — забегая вперед — нас «раскалывали» и пытали именно в этом пункте. Но и сейчас я давнего слова не нарушу, скажу только, что ныне это один из самых крупных деятелей нашей гуманитарной науки. Письмо было адресовано Брежневу и Косыгину, то есть в высшие советские инстанции, очень короткое, содержало просьбу о снисхождении и помиловании — вполне нормальное и невинное письмо… Надеялась ли я, что оно подействует? Нет, конечно! Но все же — а вдруг?? К тому же подписать было все равно необходимо — это вопрос совести.
В нашем институте число подписавших увеличилось, а состав несколько изменился. Отпали те, кто в 1965-м надеялись на «борьбу внутри», на партийные дискуссии и убеждение начальства путем доводов и логики, так называемых «ленинских норм». Письма подписывали те, у кого было нестерпимо тяжело на сердце, кого донимал стыд, кто считал себя причастным к тому, что творится в стране хотя бы из-за своего молчаливого согласия. Или подписывали просто по душевному порыву — как же отказать, когда просят поддержать правое дело? Интересно разделилась тогда наша интеллигентная публика, наш «ближний круг» на тех, кто — «да» и кто — «нет». Ведь это был в чистом виде вопрос «экзистенциального выбора», «пограничная ситуация». Были типовые формулировки отказа: боюсь за детей, муж (жена) не разрешает, научный руководитель (коллега) умоляет не заваливать общую работу. «Не смогу заниматься профессией, где я принесу больше пользы, чем „в политике“» — характерно, что довод об «охране» собственного «творчества» часто исходил из уст людей вполне посредственных, но амбициозных и сильно преувеличивавших собственную ценность для искусства. Совсем недавно, уже в наши дни, когда, казалось бы, история все давно расставила на свои места, я прочла в одной книжке эти запоздалые аргументы «неподписания» — и про «политику», про «профессию», про «научного руководителя». Вот эти моменты кажутся мне важными для характеристики нашей среды — так называемой «творческой интеллигенции» — и небезразличными для ее сегодняшнего дня.
Тучи сгущались. Из других мест доходили сведения о проработках, парткомах, собраниях, исключениях, выговорах. Наш институт с его отборным, уникальным людским составом славился как оплот либерализма и добровольно в кампанию включаться не спешил, но ведь над ним ЦК, Министерство, райком и др. и пр. И началось…
Первыми под нож попали партийные — Людмила Белова, Леонид Пажитнов и Борис Шрагин. Они стояли насмерть на бюро райкома, когда их пытали, кто дал письмо, когда требовали снять подпись и признать «грубую политическую ошибку» — это были главные пункты обвинения, которые далее будут расцвечиваться по нарастанию формулами «идеологическая диверсия», «клевета на социализм», «удар под вздох матери-родине» и т. д. В итоге у них сразу после заседания отобрали партбилеты.
Трудно сложилась судьба этих замечательных людей, о чем здесь могу, к сожалению, написать лишь коротко.
Борю и Леню немедленно уволили из института, прервав их интересные и плодотворные труды на стыке культурологии, социологии и искусствознания, начатые ими исследования по истории русского общественного сознания, то, что находилось в производстве, — вынули. Писали они вместе, теперь их тандем был разрушен, опубликованные статьи изъяты, в том числе и один из самых первых у нас социологических зондажей кинозрителя в институтском сборнике «Вопросы киноискусства».
За Шрагиным потянулся шлейф «диссидента» (он действительно связан был с «правозащитниками», дружил с Ларисой Богораз, Анатолием Марченко и другими активными деятелями сопротивления режиму). Он постоянно находился под надзором КГБ, это чувствовалось даже при обыкновенном бытовом с ним общении. У его жены (тоже «подписанки» Натальи Садомской из Института этнографии) была в корректуре зарублена книга и т. д.
Короче говоря, Боре пришлось уехать в Америку по спасительной тогда для многих преследуемых «еврейской визе». Там он много писал, выпустил прекрасную (увы, пока опубликованную у нас лишь во фрагментах) книгу «Противостояние духа», печатался в американских журналах, работал на радиостанции «Свобода» и открыл во время перестройки очень «личную» рубрику «Школа демократии». До последних дней он сохранил живость и блеск ума, горячность и страстный общественный темперамент. Погубили его ностальгия и сигареты: Боря умер от типичного рака легких курильщика в 1990 году. Он похоронен на тихом нью-йоркском кладбище Кью-Гарденс. Наталья Садомская после его смерти, расставшись с университетами, где она читала курсы антропологии, вернулась в Москву, работает здесь. Так же поступил бы в наши дни и Борис: завидно адаптировавшись в тамошней жизни, он жил жизнью нашей.
Л. Н. Пажитнову довелось вернуться в Институт, где с ним так любезно обошлись в апреле 1968-го, только двадцать с лишним лет спустя. С профессией он, безработный, не расставался, приобщился также в качестве сценариста к научному кино, писал книги по театру, а в Институте, возвратившись, организовал междисциплинарную научную группу «Серебряный век». Он скончался столь же безвременно, сколь и Шрагин, в 1997-м. Сейчас выходят из печати давние их статьи — хорошо! Но пошло ли на пользу советской (так назовем ее все же!) культуре, гуманитарной науке и самому ее «храму» — основанному И. Э. Грабарем российскому Институту истории искусств — изгнание двух талантливых ученых в расцвете сил? Вот вам, Валерий Иванович Фомин, еще одна «полка» для вашей библиотеки запрещенных произведений!..
Выгнав из КПСС Люду Белову, уволить с работы ее побоялись. Было у нее (как и потом у меня) «преимущество» перед нашими дорогими ребятами: мы были женщины да еще с несовершеннолетними детьми. Белова к тому же была фронтовичка, прошла войну до Берлина (она была актриса фронтового театра), у нее был редкий для женщины орден Красной звезды. Она была человеком честности, какой-то девичьей наивности, ума, остроумия, несколько мрачноватого и немногословного (молчит-молчит, а потом вдруг припечатает!) До Института она работала на Мосфильме редактором, разумеется, глубоко прогрессивным и принципиальным, широта взгляда и вкус в кино были у нее безусловными. Была она бесстрашная, надежная, верная.
Следующей ступенью «прохождения» кампании писем был вопрос об апелляции. По уставу КПСС каждый исключенный имел право в течение 1,5 месяца подать жалобу в вышестоящую инстанцию, то есть в Горком. Вокруг всех троих исключенных, а потом, когда прибавилась к ним и я, радетели бегали и умоляли подавать апелляцию, дескать, выгнали нас неправильно, мы «чистосердечно раскаиваемся» (очень популярна была, висела в воздухе и эта формула), простите нас! Иначе — нам погибать, из Москвы вышлют за тунеядство, посадят и т. п. По поводу Шрагина, Пажитнова, потом Копелева и меня (нас исключали позже, летом) дискуссий не было — для нас это было абсолютно невозможно и не обсуждалось. А вот с Беловой получилось иначе, и в этом я себя считаю виноватой. Дело в том, что на «командирском совете» в лице Копелева и Бориса Балтера, которые очень опекали Люду как фронтовую подругу, было постановлено ей апелляцию подавать. Доводы были такие: она не сможет в случае увольнения писать «на подставуху» (то есть работать негром у какого-нибудь артиста-мемуариста или у грузина — соискателя на ученую степень доктора наук), она не из борзописцев, как мы; у нее на руках сынишка и старая мама, здоровье плохое. Тем более героине ВОВ должны сделать послабление. Сам Лева Копелев продиктовал ей текст апелляции, правда, очень тактичный.