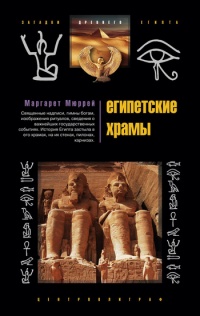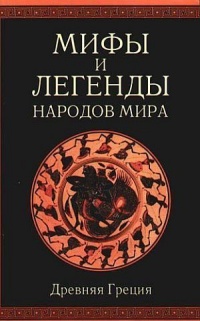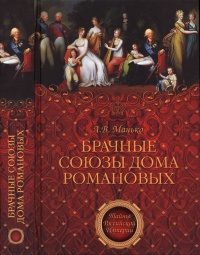обычно пустовало. – если вы собираетесь направиться к мэтру Кальвину, то не сочтите за труд передать ему мои отчёты о сегодняшних заседаниях. Только погодите мгновение, я составлю всё по форме.
– Как вам будет угодно, господин председатель! Мэтр Кальвин повелел мне после сего заседания немедля вернуться в канцелярию. Уверен, что как всегда застану его за работой в кабинете.
Председатель трибунала продолжал нервно копаться в бумагах, каждая из которых в какой-то миг определила судьбу какого-то человека.
– По одному, а то и по два заседания каждый день, – сетовал председатель, – и так которую уж неделю. Конца и края не видно всем этим глупцам, наглецам и прелюбодеям. И многие здесь не по первому ведь разу. Неужели так трудно понять одну простую истину – не нарушай заповедей Церкви нашей и не окажешься ни на этой скамье позора, ни в тюремном застенке.
– Уж лучше пусть эти глупцы и прелюбодеи. Каждый из них вредит больше себе, нежели обществу. Несколько дней, проведённые в застенке на хлебе и воде и в непрестанной молитве наставят их на путь истинный. Гораздо опаснее персоны умные, коварные. Эти, сами пребывая в холодном уме, но одурманенные шёпотом тьмы, способны смутить многие неокрепшие умы и затравить души. Вот кого нужно поскорее выискивать и препровождать в тюрьмы. Не находите ли, дорогой председатель?
– Уж не о либертинах ли вы изволили упомянуть, дорогой мэтр Морель?
– И о них тоже.
– Ну, об этом нам с вами не стоит беспокоиться. Вся жизнь Женевы устроена так, что о любых её противниках, едва они заикнутся о своих богопротивных замыслах, тут же становится известно Консистории и всем нам. А уж Консистория их не упустит, её пресвитеры умеют увещевать заблудших словом Божиим. А если те не внемлют, то окажутся здесь в суде на скамье позора. А уж мы сумеем урезонить их, но уже не словом, а тюрьмой или плахой. Сия конструкция, построенная на «Церковных ордонансах» мэтра Кальвина, отлично работает и уже лет десять как уберегает Женеву и всех нас от ненужных потрясений. Убережёт и от либертинов, и от перекрещенцев, и от меннонитов, гуттеритов и прочей ереси, как её не назовите. Могу ошибаться, метр Морель, но по-моему, вы так же принимали участие в написании «Церковных ордонансов»?
– О, нет. В то время, когда мэтр Кальвин в коллегии с пресвитерами создавали ордонансы, а было это, если не ошибаюсь, в первые месяцы после его возвращения из Страсбурга уже более чем десять лет назад, я был всего лишь писцом в городской канцелярии. Мэтр Кальвин изволил назначить меня своим секретарём несколько позже, когда «Церковные ордонансы» уже были приняты городскими властями для исполнения.
Председатель, разобрав наконец все бумаги на своём столе, подписав необходимые и скрепив печатью, аккуратно сложил их стопкой на краю судейского стола.
– Секретарь, передайте!
Получив из рук секретаря отчёты, Морель уложил их в свой портфель и, раскланявшись с председателем, поспешил удалиться. Нужно было торопиться, Кальвин не терпел излишнего ожидания, равно как не терпел необязательности и беспорядка. Он много ещё к чему был нетерпим и очень мало, к чему был благосклонен. За все те годы, что Морель находился рядом с Кальвином где-то по собственной воле, а где-то по воле обстоятельств или вопреки им, он многое узнал об этом странном и удивительном человеке. Присматриваясь к нему, Морель в чём-то нашел подтверждение своим предположениям, имевшимся у него до их личного знакомства, в чём-то открыл для себя нечто новое, где-то забавное, а где-то непонятное и не укладывающееся в голове. Однако за всё время наблюдений за своим визави Морель, как ему показалось, нашел ту особенность личности, которая его, Кальвина, простого нотариуса превратила в управителя целого города и в вождя евангеликов-еууиепой чуть не всей Европы. Уверенность в своей правоте. Едино лишь она. Эта уверенность, будь она неладна, делала его непоколебимым перед любой критикой скептиков и неприступным перед враждебными нападками идейных противников. Эта уверенность придавала ему огромное мужество, а порой и безрассудную смелость. Она же доводила его до самоотречения в продвижении своих догматов и делала беспощадным ко всему и всем, кто эти догматы не принимал или не желал им следовать. Но что же давало ему эту уверенность? Только его вера в Бога. Кроме Бога для него не существовало ничего. Ни человеческие страсти, ни земные удовольствия, ни красоты и ужасы мира совершенно не трогали его холодного сердца. Всё, что составляло собой житейские будни горожанина – кропотливый труд, ожидание выгод от сделки, стычки с недругами, веселье и праздники, прелести и гадости семейных уз, мелкие радости и горести, неизбывные заботы дня и постоянная суета – было чуждо для него. Одно из немногого, если не единственное, что действительно увлекало его – это необходимость устроить мир по заповедям Божиим и наделить евангельскими добродетелями всех и каждого. Устроить если не целый мир сразу, то хотя бы один город, который когда-то сам призвал его для этого. Именно уверенность Кальвина в своей правоте помогла ему многое изменить в Женеве. Он создал новое исповедание и образчик новой Церкви – духовную Консисторию. Он взялся подчинить этой Церкви совершенно всё и абсолютно всех. Не согласных с таким раскладом ожидало если не переосмысление, то кара. Все необходимые инструменты и для того и для другого Кальвин создал сам.
Покинув здание суда, переступая через лужи и обходя рытвины, Морель пересек площадь. Вечер давно опустился на Женеву молчаливыми сумерками. Город безмолвствовал, хотя ещё не спал. В окнах домов уныло плясали огоньки свечей. В городских тавернах и казино, несмотря на вечерний час, народу было негусто, а потому тихо. И немудрено, с некоторых пор в соответствии с «Церковными ордонансами» в таких заведениях, некогда разгульных и злачных, вино и карты потеснила Библия. Прежде чем осушить кружечку чего-нибудь горячительного, страждущий должен был прочесть стих Священного писания, книга которого лежала тут же на столе. Понятно, что таким порядком более трех кружек мало кто мог одолеть. Фривольные песни, скабрёзные анекдоты и громкий хохот воспрещались. Пробыв в таком месте сколько душа может вынести, горожане возвращались по домам не пьяные, но одухотворенные. Излишне шумных и несговорчивых городская стража отводила в тюремные камеры дожидаться следствия Консистории и неизбежного суда.
В здании городской ратуши, глыбой нависавшей над городской площадью, все окна были темны. Правда, в одном из них тускло мерцал свет. «Он как обычно еще здесь» – подумал Морель. Махнув приветственно рукой солдатам городской стражи, день и ночь стоящим караулом у входа, Морель вошел в