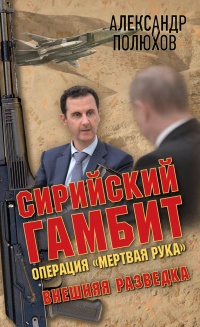Он поднял стакан. Алла подняла свой. Они сдвинули стаканы, и водка из Аллиного стакана выплеснулась в стакан Эмигранта. Она покраснела. Он довольно улыбнулся, влил в себя зелье.
— Хороший знак. — Поставил стакан на стол; снова взял ее руку — уже в обе руки. Наклонил к ее руке голову. — Так бывает у монголов на свадьбах между женихом и невестой. У тебя красивые руки. Красивые. Как у нее. Лучше, чем у нее.
Когда он поднял голову и посмотрел на нее, она поняла, что ей надо делать.
— Я не Рита, — сказала она хрипло, — но я разденусь. — Она поднесла пальцы к пуговице на воротничке платья. — И я не ударю тебя ногой в грудь. Не беспокойся.
— Я и не беспокоюсь. Сделай еще затяжку. Это поможет. Будешь смелее.
Она наклонилась, взяла в губы дудочку трубки, нашла языком дырку, втянула в себя дым. Лизнула языком теплый бамбук. Горячее сияние, белое пламя начало подниматься, разрастаясь, внутри ее живота.
— Я осмелела. Осмелей и ты.
Его губы, сухие, растрескавшиеся, пахнущие опием и водкой, легла на ее губы и закрыли их. Они целовались, пока не задохнулись.
— У меня так давно не было женщины. С тех пор, как она ушла от меня. Я не спал ни с кем. А ты спала со многими. Я же вижу. Ты же… оторви и брось, Люба. Зачем я тебе, старик. Куда я тебя за собой тяну. — Он снова нашел ее губы. — Ты переспишь со мной и кинешь меня. Я окурок.
— Ты художник, — сказала она тихо у самых его губ, вдыхая запах водки, вдыхая любовь, как опий из трубки. — Ты мужчина. Я хочу тебя. Я никогда никого так не хотела. Я боюсь любить. Я никогда еще не любила. Никогда, Канат. Никогда.
Он встал. Просунул руки ей под мышки, поднял ее с колченогого стула легко, как сухую ветку.
— Обними меня за шею. Вот так.
Она обняла его за шею, он подхватил ее под коленки и понес вглубь каморы, туда, где стояла виселица.
— Ты не убьешь меня?.. Ты… не повесишь меня?..
Он медленно опустил ее на пол. Она почувствовала холод половиц под лопатками. Он наклонился над ней, расстегивая рубаху, истрепанные джинсы. Она протянула руку и стала осязать его худое раскосое лицо, вязь морщин на лбу, торчащие скулы. Вздрогнула.
— У тебя щеки мокрые… Ты… что ты плачешь?..
— Замолчи. Ничего не говори. Ты забыла, что ты сегодня немая.
Он поцеловал ее, погрузив свой язык глубоко в ее дрожащие губы. Потом повернулся над ней, и его живая флейта оказалась прямо над ее ртом. Она взяла губами исходящую соком живую плоть, как брала мгновение назад пахучую бамбуковую трубку.
Когда он коснулся губами светящейся горячей жемчужины меж створок ее жадно раскрывающейся раковины, она чуть не потеряла сознание. Так часто разрывали ногтями. Так грубо насиловали. Так разбивали — за монету — в осколки — сапогом. Еще ничей рот безмолвно, лаской, не молился ей.
* * *
На Казанском на вокзале
Собралася публика:
Шустрик Мямлика дерет
За кусочек бублика!
Частушка
— Нет, он что, правда, этот карась, припер тебя к стене?.. Ну так задвинь ему!.. Сделай его!.. Ты же теперь Люба Башкирцева. Ты же теперь может показать любому кузькину мамашу! Купи хорошего мальчика с пистолетиком! Ты же вполне можешь купить киллера, Алка!
Акватинта дымила как паровоз. Инны Серебро дома не было — она ушла на промысел. Алла отдала ей ключ от своей хаты в Столешниковом, и теперь Инна сутками напролет молотила, пахала, водила на Столешников клиентов одного за другим, роздыху себе не давала, добывала вожделенную «капусту». Алла тоже курила, но осторожно — у нее завтра была назначена запись нового диска в студии, и Вольпи поклялся, что убьет ее, если у нее начнутся хрипы или кашель. «Март, девочка, уже солнышко, уже весна!.. Птички уже поют, а ты должна петь лучше всех птичек, вместе взятых!..» Она ссыпала пепел в старую пепельницу Толстой Аньки, на дне которой был вычеканен Мцыри, борющийся с барсом.
— Ты понимаешь, Анька, ну не могу я ему задвинуть. Не могу, и все! Пока я ищу киллера, он меня опередит. Да и деньги на счетах — все в руках Беловолка. Я никто. Никто, ты понимаешь, никто!
Ее глаза наполнились внезапными слезами. Позор, она плачет. Это идиотизм. Этого нельзя себе позволять. Она подняла голову, чтобы слезы втекли внутрь глаз. Затекли обратно в душу.
— Так разбогатей, мать! За чем дело стало? Я тебя не понимаю. — Анька презрительно оттопырила нижнюю губу, положила на нее сигарету, задымила, отогнала дым рукой. — Ты что, не можешь сама открыть счет? Ты что, дура совсем? — Анька покрутила пальцем у виска. — Или тебе жить надоело? Бери меня, сволочь Горбушко, с потрохами, так?!
Алла замяла сигарету прямо на чеканном металлическом, зверски оскаленном лице Мцыри. Вздохнула тяжело.
— Ну, открою я счет. А что я на него положу?
— Как что? — Акватинта воззрилась на нее, как на припадочную. — «Капусту», разумеется.
- «Капусту»?.. — Алла горько поморщилась, будто глотнула соли. — Всю выручку с концертов, все мои гонорары Беловолк переводит сразу на счета Любы. Я манекен, понимаешь. Я — манекен!
Она передернула плечами, будто замерзла, хотя на кухне у Акватинты было жарко — от гудящей газовой колонки, от вечной сковородки с жарким, стоявшим на медленном огне — Толстая Анька любила пожрать, в особенности — жареное мясо.
Анька протянула пухлую, как у царицы Елизаветы Петровны, руку и уменьшила газ. Сигарета лепестком свисала с ее губы, не падала, будто приклеенная.
— Ты? Ну дура. Джой, ты была дурой и останешься дурой навсегда. Это неизлечимо. — Анька вынула потухшую сигарету изо рта, снова раскурила, рассерженно щелкнув зажигалкой. — Нет «капусты» — наколоти ее! Была бы охота! Никакой твой Беловолк никогда и не узнает, чем ты занимаешься в свободное от работы время. А может, у тебя хобби! — Она подмигнула Алле. — В твоей хате сейчас Серебро вкалывает, так она столько баков уже зашибла, что собирается строиться ни больше ни меньше, как на Каширке, в престижных домах для клевой публики, знай наших! А ты хнычешь, мать! Нехорошо.
До Аллы дошло. Акватинта, добрая душа, предлагала ей снова заняться ее проститутским ремеслом.
Она поперхнулась, закашлялась. «Не кашляй громко, надсадно, Миша же предупредил тебя — никакого кашля, завтра запись, чистота тембра должна быть идеальная».
Анька стукнула ее по спине, и Алла закашлялась еще больше.
— Хлипкая ты, — сочувственно бросила Анька, — какая же ты, к черту, певица, если так тебя выворачивает. Может, коньячку дерябнем?.. у меня есть в энзэ… Думай, думай, старушка! Ключ от Инки возвернем. Для такой благородной цели она тебе, — Анька хохотнула, — твою же квартирку с поклонами уступит. Всегда пожалуйста. А ты ей что-нибудь другое подыщешь, чтоб она не плакала. Временно. А то работа встанет. Что-нибудь этакое… фешенебельное. Какую-нибудь хату одного из своих богатых дружков, с кем ты сейчас общаешься-якшаешься… который взял да и уехал на Канары на месяцок-другой… или в солнечную Австралию — на три годочка…