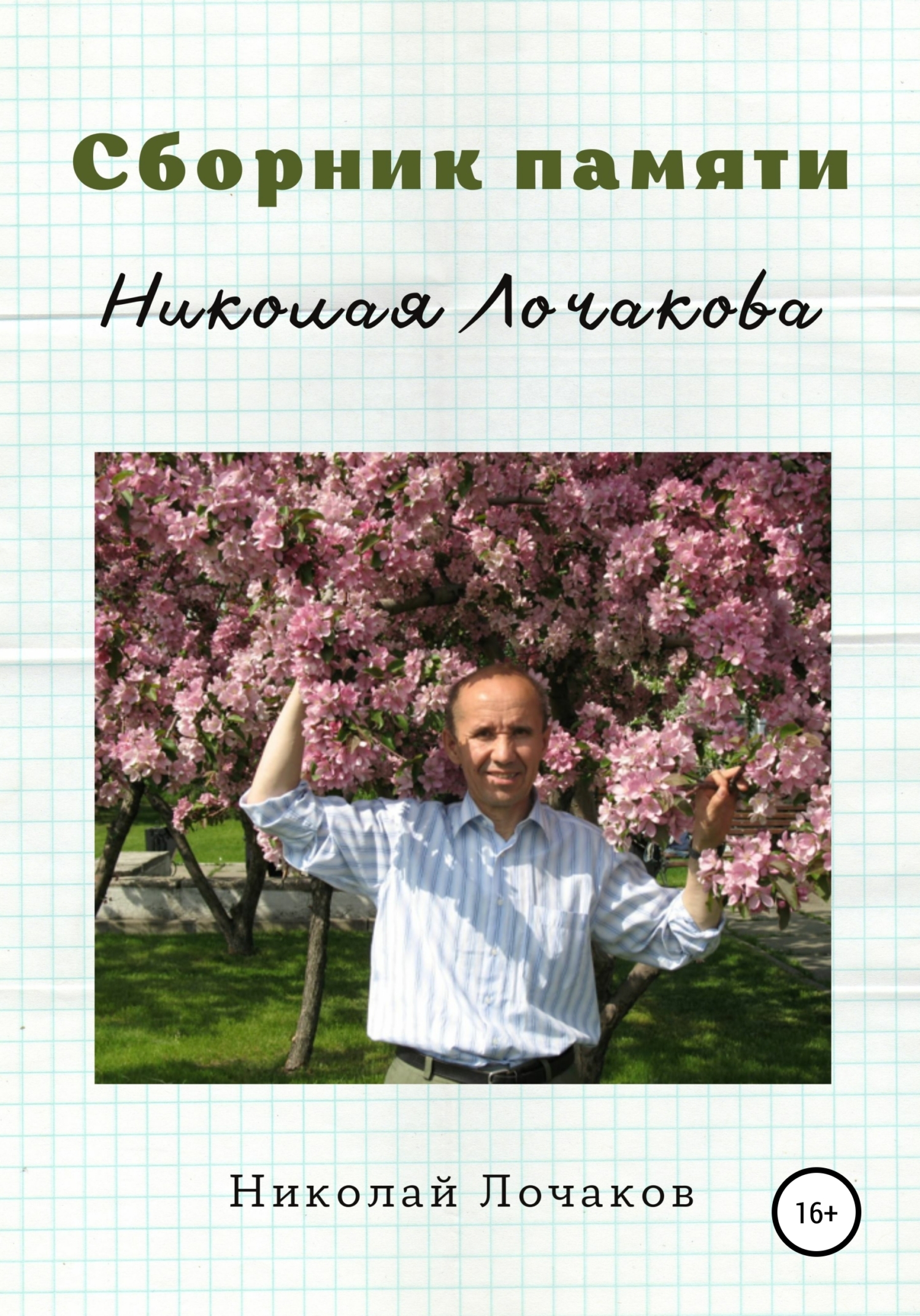ухода остается какой-то след. Возможно даже, что истинное присутствие людей и вещей начинается только после их исчезновения. Тебе так не кажется? Я не верю в полное отсутствие. Я верю в остающийся след. Иногда он невидим. Но по нему можно идти. Я уже знала, какие воспоминания остались от Элимана в памяти моего отца. Но я убеждена: воспоминания о нем сохранились и в памяти других людей. Я уверена: он жил и в других жизнях. Дело за тем, чтобы найти эти жизни. Устроить на них охоту и найти. В глубине души, Диеган, где-то в глубине души я знаю: когда гаитянская поэтесса предложила мне свою помощь, чтобы завершить образование, я согласилась не ради нее и не ради самой себя, то есть не ради того, чтобы вырваться из своей страны. Нет, я согласилась ради Элимана Мадага. Это за ним я приехала во Францию в 1983 году, после трех лет блужданий и шатаний на краю обрыва, с кусочками угля, которыми я исписывала стены на улицах Дакара.
II
Через несколько недель после публикации расследования, глядя на могилу своей героини, Брижит Боллем с волнением, какого сама от себя не ожидала, сказала мне, что именно здесь, на маленьком деревенском кладбище, под грязным небом поздней осени, задалась вопросом: правду ли сказала ей умершая?
– Я не подвергала сомнению правдивость ее рассказа – вплоть до той самой минуты. Вы, наверное, удивляетесь, почему эта мысль пришла мне в голову только тогда, через столько лет после нашей беседы.
Разумеется, Брижит Боллем обращалась не ко мне, Диеган. Она говорила с собой. Но и я, глядя на нее, задавала себе вопрос: почему только перед могилой этой женщины, после опубликования эссе «Кем на самом деле был негритянский Рембо?», Брижит Боллем усомнилась в надежности своего основного источника. Ведь осторожность в таких вопросах – главное условие журналистской работы. И я подумала: потому что теперь, когда основной источник уже на том свете, не осталось никого, кто мог бы рассказать об Элимане. Да, вот что я подумала, Диеган: Брижит Боллем осознала, что между ней и жизнью Элимана выросла стена молчания, поскольку единственный источник, в памяти которого он оставил след, отныне стал недоступен. На мой взгляд, это объясняло, почему правдивость последнего свидетеля вдруг стала для нее так важна…
– Но правдивость тут ни при чем, – заметил я. – Одно дело усомниться в том, что умершая говорила правду, и совсем другое – осознать, что она была последней, кто лично знал Элимана. Боллем должна была это понимать, не так ли?
– Ошибаешься, – ответила Сига Д. – Тут есть связь. По крайней мере, была в момент осознания. Та женщина была последним человеком во Франции, который встречался с Элиманом. А это значило, что сказанное ею теперь будет признано правдой на вечные времена. Возможно, излагая историю своих отношений с Элиманом, она кое в чем слукавила. Возможно, позднее она раскаялась бы в этом. Возможно, скорректировала бы свою версию фактов. Но она умерла. И теперь ничего этого не будет: ни раскаяния, ни исправлений. Ее свидетельство об Элимане закреплено навечно. Боллем привела его в своей книге. И даже если оно было не совсем правдивым, потомки будут воспринимать его как непреложную истину. Сегодня, Диеган, мы оба знаем, что история Элимана на этом не закончилась, что были и другие люди, знавшие его. Мы знаем, что его жизнь продолжалась и после 1938 года. Но в 1948 году Брижит Боллем, стоя у свежей могилы, не могла этого знать. Расследование, которое она перед этим опубликовала, по большей части было основано на признаниях других людей. Если бы они оказались ложью, проделанная ею работа не стоила бы ломаного гроша. Мне казалось, именно это вызывало ее тревогу.
– Понимаю, – сказал я. – Возможно, ты права.
– А вот и нет. Я ошибалась. Во всяком случае, в тот день Брижит Боллем дала мне это понять. «Сейчас у нас 1985 год, мадемуазель, – помолчав, сказала она. – Мое расследование вышло в 48-м… Или в 49-м? Нет, в 48-м. Кстати, вы читали его?» – «Да. Нашла экземпляр, завалявшийся в подсобке у одного букиниста». – «Да, только в таких местах его еще и можно найти… Это расследование никого не заинтересовало. В 48-м году Элиман был забытой фигурой, никто уже не хотел о нем слышать. Единственный человек, который его еще знал, умер через несколько дней после выхода моего эссе, в 48-м… да, в ноябре 1948-го. Эта женщина умерла добровольно, я уверена в этом. Только несколько дней назад, когда вы позвонили и попросили меня о встрече, я вспомнила то утро на кладбище и ее могилу. Почему только в тот момент я спросила себя: было ли правдой то, что она мне рассказала? До того, как я получила ваше письмо, у меня не было ответа на этот вопрос. Теперь он появился: то, что я услышала, было исповедью страдающей женщины. Видя ее страдания, я думала, что она не может говорить ничего, кроме правды. Все время нашей беседы я ни на минуту не заподозрила, что она может солгать или слегка приукрасить правду. Ее страдание было слишком велико. А главное, она казалась мне слишком чистой, несовместимой с ложью. И только когда я стояла перед ее могилой, мне пришло в голову, что между страданием и правдой нет взаимосвязи; что человек говорит правду не потому, что страдает, какими бы ни были природа, причина или последствия этого страдания. Случается даже, что страдание заставляет человека пойти против правды. Только стоя перед могилой этой женщины, я подумала: добровольно или нет, но она могла солгать. Возможно, она умерла в уверенности, что сказала правду, а на самом деле выразила свое страдание. Вот что я подумала тогда на кладбище. Вот что мучило меня, когда я смотрела на ее могилу. Начался дождь. Я вспомнила день, который мы с ней провели вместе, когда она рассказала мне правдивую историю, связавшую ее с Элиманом. Правдивую историю «Лабиринта бесчеловечности» и проклятия этой книги. Или, точнее, то, что она считала правдивой историей. Через несколько дней после озарения, посетившего меня на кладбище, и возникших затем сомнений, я узнала, что сомнения эти были отчасти обоснованны. Но то, что случилось потом, известно только мне одной. Я нигде не писала и никому не рассказывала об этом. Я могла бы дополнить свое расследование. И даже должна была. Но я этого не сделала. Во-первых, потому, что всем было наплевать на это дело. А во-вторых, потому, что мне было страшно говорить об этом. Полагаю, вы здесь затем, чтобы узнать, что мне известно».
– И это была правда? – спросил я. – Для этого ты