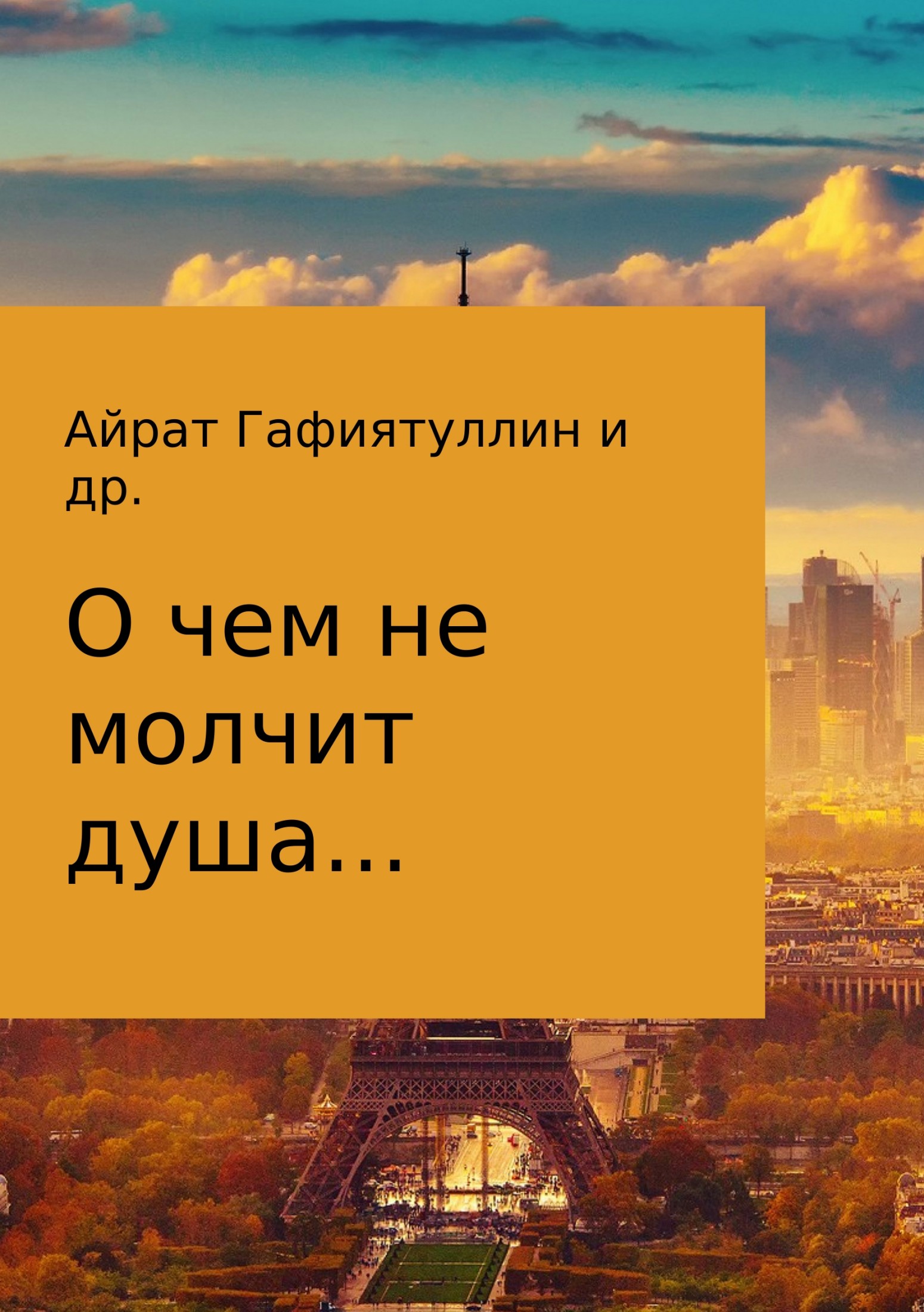Хлестко хлопнул выстрел. Испуганный дракой и выстрелом конь рванул с места, сквозь толпу. Снова раздался выстрел. Драка оборвалась, смолкла ругань, опустились занесенные для удара колья.
— Сто-о-о-ой! — закричал Санька.
Фенька Кулезень попятился назад. Дуло нагана направлено прямо ему в грудь. Нижняя челюсть у Феньки отвалилась, дрожит, на лбу выступили пятна. Ножа у него уже нет. Руки поднялись кверху.
Вместе с ним под дулом нагана откатываются назад мужики и проигравший дело Максим Большов. Грозно блестит на солнце вороненая сталь. Глядит смерть из черной точки, и никому не хочется принимать ее на себя. Но Санька видит только одного Кулезеня, только за ним строго следит черная точка. И не убежать тому никуда, не провалиться сквозь землю.
Поднялся Павел Иванович. Избитый, истоптанный, облитый кровью встал Федот Еремеев. А в это время застучали по переулку телеги, послышался топот бегущих людей. Сельсоветский актив, коммунисты и комсомольцы, поднятые Иванком Петушком, спешили на помощь.
3
До поздней ночи участковый милиционер Уфимцев и председатель сельсовета Федот Еремеев выясняли обстоятельства пожара и драки. В коридоре и на улице, возле крыльца, ожидая вызова, стояли протрезвевшие, скорбно молчаливые погорельцы. Фенька Кулезень, Максим Большов и Осип Куян были закрыты в разных комнатах. Большов держал себя тихо, не переставая, ходил из угла в угол. Кулезень сквернословил, время от времени стучал кулаком в дверь, стараясь ее выбить. Осип Куян лежал на полу, безучастный и равнодушный. У него пропало все, семья осталась голодная и раздетая под открытым небом. Горе в нем перекипело, превратилось в камень и придавило его. С покорностью он ожидал решения своей дальнейшей судьбы. Ни на какую милость не надеялся.
Свидетели-погорельцы ничего определенного показать не могли. Перед пожаром многие из них справляли праздник, занимались домашними делами. Пожар ошеломил их, оглушил, выбил память. Никто не мог припомнить, как это случилось, словно земля сама выбросила пламя.
Захар Чесноков сгорел вместе со своим двором. Его, обгорелого до костей, нашли возле бывшего пригона, где он, по-видимому, пытался спасти от огня лошадей.
Привлекать к ответственности за пожар было некого.
Никакой связи Большова с пожаром никто не нашел. Фома Бубенцов подтвердил, что Большов и Прокопий Юдин не отлучались, ни с кем не встречались и держали себя смирно, пока не началась тревога. Большова обвинили лишь в том, что он, напоив погорельцев вином, подстрекал их против руководителей местной власти. Опровергнуть этот факт он не мог. Обвинение подкреплялось показаниями Саньки Субботина, а также актами об изъятом самогонном аппарате и найденном у Егора Горбунова зерне. Оба акта Горбунов подписал. Его изба тоже сгорела. Он считал себя наказанным за предательство и трусость, не переставая твердил о боге и совести, рассказывая о своем «благодетеле», проклинал его.
Под утро милиционер Уфимцев увез Большова и Феньку Кулезеня в Калмацкое.
Осипа Куяна выпустили. Федот Еремеев заступился за него:
— Мужик он, хотя и темный, а все ж таки наш! — сказал он Уфимцеву. — Теперича сам поймет, где правда. По несознательности хлеб прятал в поле, по той же несознательности и в драку ввязался. Пусть к семье идет.
Выходя, Осип Куян наклонил голову. У него вздрагивал и кривился рот. С трудом прошептал:
— Благодарствую, Федот Кузьмич, за доброту! За то, что злобу не держишь! А ведь виноват я перед тобой, ей-богу, виноват!
— Ладно! — дружески ответил Еремеев. — У меня скула крепкая.
— Советская власть не казнит! — авторитетно добавил милиционер Уфимцев. — А все ж таки похлопать из тебя пыль не мешало бы.
Весь следующий день сельсовет и комитет бедноты были заняты устройством погорельцев. Их расселили в оставшихся дворах Третьей и Середней улиц. Первоулочные богатые хозяева в своих домах «не нашли» места для погорельцев.
С утра плыл над Октюбой тоскливый похоронный звон. Старики и старухи устало плелись в церковь. Отец Никодим служил службу. Говоря проповедь, он смиренно призывал прихожан к покорности против божьего гнева, призывал крепить веру. Но видел: не доходят его слова, нет на лицах настоящего умиления, нет веры.
На пожарище было пустынно и тихо. Лишь ветер посвистывал в обгорелых полуразвалившихся печных трубах, заметал серую золу, перекатывал по земле черные угли. Кое-где из воронок, на месте бывших погребов, курился дымок, беспомощный и хилый. По пустынной улице одиноко брела старуха Захара Чеснокова. Часто останавливалась, опираясь на палку, вглядывалась в дома, плевала в их сторону, бормотала:
— Где Макся Большов? Погубитель! Антихрист!
Она одна знала о встрече Большова с Захаром, помнила, как после этого старик пошел на гумно.
В Октюбе говорили, что она сошла от горя с ума.
Двор Большова был наглухо закрыт: ворота на замке, ставни захлопнуты. Никто не входил и никто оттуда не выходил. Степанида стояла в горнице под образами, непрерывно молилась. Она не знала, что к ней пришло: несчастье или облегчение ее страданиям. Забитый и молчаливый, как мать, двадцатилетний наследник Большова Митрофан дежурил на крыльце. На пути в Калмацкое Большов попросил милиционера разрешить повидать семью и во время свидания дал сыну строгий наказ: во двор никого не пускать. Выполняя его волю, Митрофан с крыльца никуда не отлучался. В пригоне беспокойно фыркал и бил копытами любимец хозяина — вороной жеребец. Оба работника, жившие у Большова, были отпущены, и жеребец стоял без проминки.
Неподалеку от сельсовета, в переулке между Первой и Середней улицами, встретились Егор Саломатов и Прокопий Юдин. Юдин сумел отстоять себя, отделался штрафом и порицанием. Теперь он ругал Большова, опасаясь не столько за него, сколько за себя:
— Упреждал же я его, сукина сына! — сказал он Саломатову. — Советовал: не суй руки в огонь! Не послушался. Вот и обжегся. Должно, крепко они связали его.
— Надо выручать, — пробасил Саломатов.
— Придется. Не кинешь же его. Он ведь хуже собаки, добра никакого не помнит. Озлится на нас, не дай бог, всех погубит. Начнет рассказывать по злобе, чего и не следует.
— На поруки его покамест взять, что ли?
— Да хоть и на поруки. А дальше увидим, как быть.
— Могут не отдать. Не поверят нам. Задобрить бы надо, пожалуй, сельский совет. Согласиться свезти в казенный амбар хоть по возишку зерна. Заготовки-то теперича у них совсем на убыль пойдут. Глядишь, будут рады, перестанут рвать удила. Тут им прошение насчет Макси и подсунуть.
— Не надо! Положи палец в рот, руку откусят. Чего хочешь, можно отдать, только не хлеб.
— Тогда деньгами сложимся.
— Деньгами можно. На расходы по хлопотам деньги нужны.
Пока Юдин и Егор Саломатов ходили по дворам Первой улицы, договаривались брать Большова на поруки, вернулся из поездки в