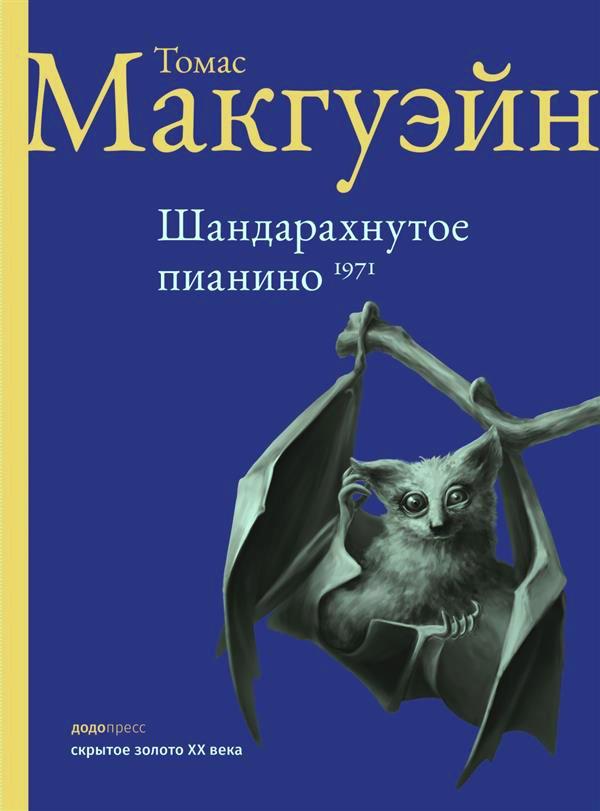в список экзаменов второй сессии. «Это какой-то феномен, – вздохнула логик Глушкова. – На семинарах не были, учебника нет, а три контрольных написали лучше всех…»
В семье Серафимовой феномен передавался, очевидно, по женской линии, потому что Ольгина мать, например, приходила со своего факультета восточных языков к подруге на мехмат, и, будучи до нелепого похожей на подругу, сдавала за нее зачет по высшей математике – «ради дружбы».
Серафимова, впрочем, ради дружбы ничего такого не делала и вообще близка ни с кем не была, – может быть, как раз потому, что не скрывала своего презрения к мозгам обычных первокурсниц. Приходила первой, доедая бублик с кофе, бросала толпе рудиментарное «здрасьте» и шла на галерку – всегда особняком, на последней парте, с Поляковым в голове.
Это, конечно, она отыскала его – точнее, нашла повод лишний раз поглазеть на загорелые скулы профессора, записавшись в учебной части каким-то чудом на его магический киносеминар, хотя запись уже больше не велась, да и в общих списках он… не то что не значился, но значился под каким-то нелепым номером, вроде Поляков 2/13 или Поляков ЗАБ/11. О поляковских лекциях по античке, на которые было много званых, знали все. А вот семинаром наслаждалось как раз мало избранных, в которые Серафимова, разумеется, и зачислилась – ну и меня с собой тоже прихватила. И с этого-то все и началось.
На лекциях Поляков неистово ругал официальный учебник, ходил по рядам, смотрел в тетради, включал и выключал люстры в аудитории, чтоб продемонстрировать студиозусам эффект от чтения Овидия в оригинале, заставлял опоздавших маршировать под «Турецкое рондо», цитировал Библию, которую привез из Вашингтона… Американское прошлое Полякова очень шло его внешности, чем-то он был похож на Джона Кеннеди, только помягче чертами и светлее мастью, как если бы Джона вдруг нарисовал Нестеров – нелепое сравнение, но оно-то, бывает, и передает точней всего милые черты.
На семинаре он, напротив, говорил мало, разрешал присутствующим высказывать свое мнение, приносил фильмы в оригинале, листал с нами свежие американские киножурналы, был совсем не убийца и злодей, как шипели про него бледные тени, выползая из душной камеры с табличкой «Идет экзамен: Античная литература», – нет, Поляков был прежде всего волшебник, глядел на нас лукаво, облокотившись на туманное зеркало профессорского стола, и что ни спроси, все умел, все делал… Студентом играл в театре, а в армии решил со скуки устроить киноклуб − устроил, и клуб до сих пор в том городе работает, успел построить дом, перевести книгу с греческого, выпустить в Омске журнал, посадить в Крыму виноградник… И теперь вот руководил какой-то немецкой фирмой… что за фирма, никто не спрашивал, только знали, что владеет ей некий Хельмут, но Поляков там за хозяина и его слово для осторожного Хельмута – закон.
Но увы, как только увесистые часы Полякова начинали отсчет драгоценным минутам семинара, Cерафимова, глядя на милое лицо, теряла дар речи и, соответственно, в дебатах не участвовала. К весне я убедилась, что она ходила только на Полякова, другие занятия пропускала напропалую, пропадая на службе в адвокатском бюро, у какого-то Мазая (совсем не дед, а швейцарец, вздохнула Серафимова). К письменной работе, которую Поляков просил нас подготовить, она до весны не приступила, мучимая паранойей написать для него посредственно – и в результате не написала ничего. Кино для Серафимовой, при всей ее блестящей осведомленности о послужном списке Курасавы, стало лишь «залогом свиданья верного», как сказала уже однажды прелестная героиня Пушкина.
− А ведь он женат, – вскользь и как будто равнодушно заметила Серафимова.
− И счастлив? – спросила я.
− Да.
− Плохо! – сказала я.
Серафимова уныло отозвалась:
− Хуже некуда: двое детей и жена балерина.
– Дети от балерины? – спросила я.
– Очень смешно, – вдруг огрызнулась Ольга, и, как многие блондинки, покраснела мгновенно так, что начали гореть ее щеки, а через минуту – точеные продолговатые уши.
– Ты все-таки балда, хотя и умная, – сказала я. – Чем злиться, напиши лучше нормальный реферат, подкарауль после семинара и отдай. И еще можешь предложить донести до дома его красивый портфель. Классический способ приударить в учебном заведении.
– Очень смешно, – повторила она, и румянец у нее на щеках кругло и ровно потемнел, а затем она вдруг встала и ушла, оставив меня одну у порога любимого нашего музея, где фламандцы во главе с Брейгелем обитали на первом этаже, и часами можно было глазеть на зимний пейзаж с птичьей стаей, и еще на летний, где темнорогая корова дремала на берегу залива, по-кошачьи свернувшись в клубок рядом с босым пастухом.
Музей мы с ней фанатически посещали во время экзаменов, как-то незаметно прилипла к ним такая примета – уж если подкатило счастье и сдали один, надо сразу пожертвовать на культуру, так сказать, музам, чтобы музы смилостивились и – только не смейтесь – как-нибудь позволили сдать следующий.
***
Сценарий жертвенного обряда был таков: купить два билета по студенческому тарифу, спуститься в раздевалку, где очередь провинциалов в гардероб, пучеглазая, многолапая сороконожка, извивалась и кусала себя за хвост… Миновать их всех, растерянных, помочь интуристу сдать манто тете Клаве, да и самим пристроиться, потом нырнуть направо, в мраморный карман столовки… Заказать, перво-наперво, космическую картошку – это Ольга звала ее так, потому что кому же еще кроме космонавтов, студентов и музейных работников можно скормить разведенный пакетным молоком сухой картофельный порошок, называя его «пюре по-домашнему»… И кофе, и дикого вкуса пиццу «пеппероне» (на итальянское слово не стоит обращать внимания), и потом, от избытка чувств, конечно, – пирожное «Наполеон». За кофе обсудить весь прошедший экзамен, притомиться, подготовиться к встрече с прекрасным, предъявить на входе студенческий билет.
Пойти стремительно – направо. Дойти до скульптурной композиции «Искуситель и Дева», как ни в чем ни бывало, затронуть перчатки, что держит в руке благообразный молодой человек (анфас), в которого на самом деле оборотился дьявол (соответственно, в профиль: со спины обнаруживаются копыта, хвост, завитушки адского пламени на бархатном плаще, где художник любовно вырезал жаб, саламандр и разных гадов). Хочет, конечно, совратить с пути невинную деву. Дева довольно зрелых лет (после жаркого спора с Серафимовой, мы так и не решили, можно признать ее беременной или нет), но все-таки хороша – дебелая, грудастая и, как все ангелы и девы в средневековой немецкой скульптуре, с подбритым лбом и нежными отекшими веками.
Если шалость сходила с рук и нас не изгоняли с позором (к чему скрывать, бывало и такое), надо было срочно совершить вот что: