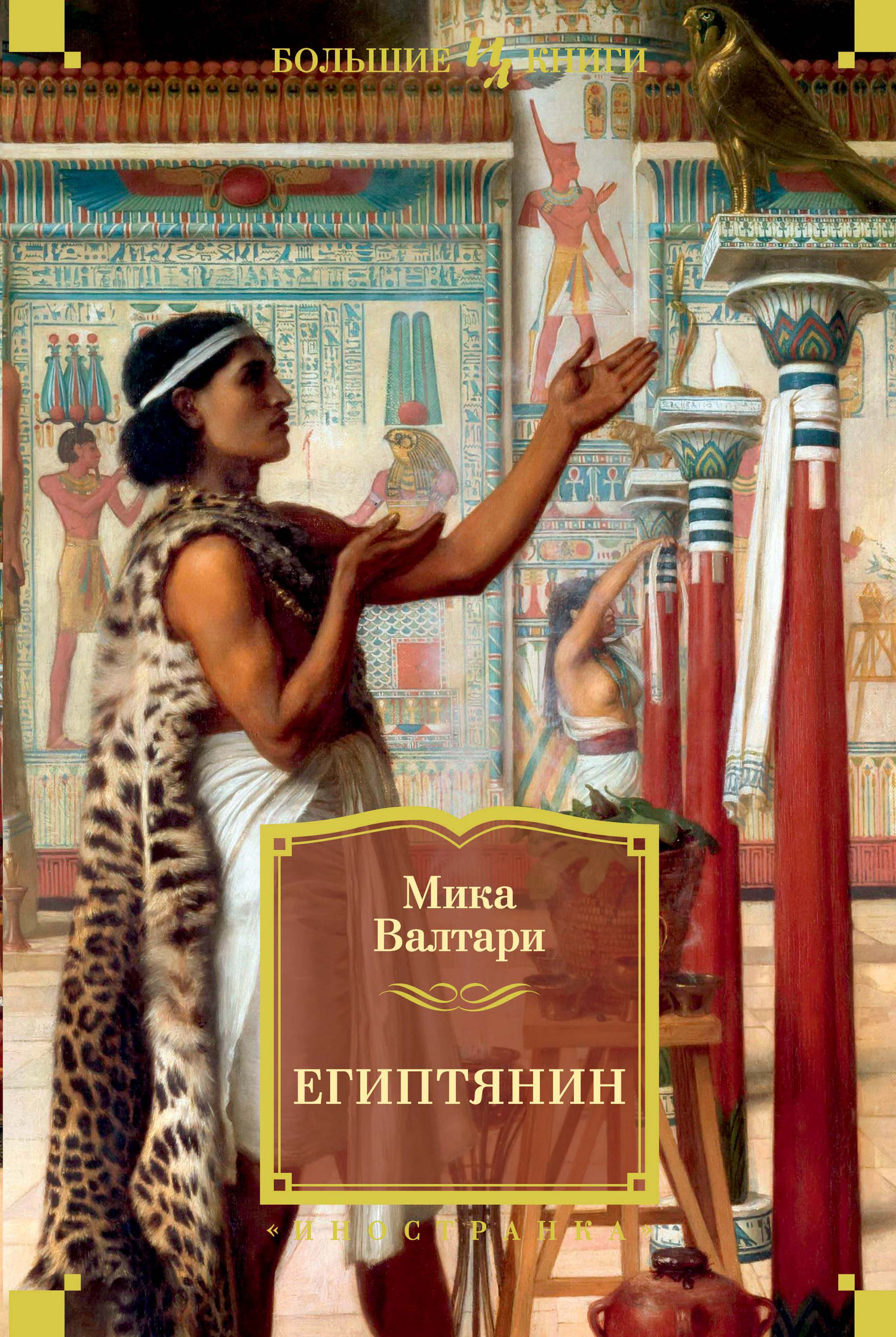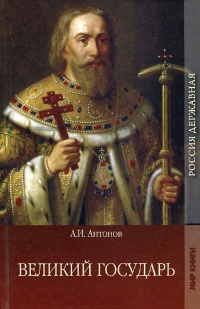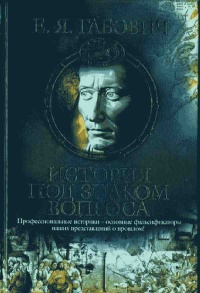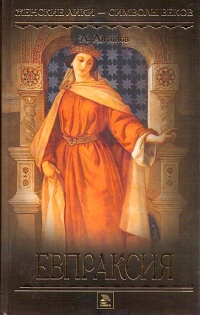нас обоих, если бы ты решился жениться на мне.
Она приложила ладонь к моим губам, чтобы я не мог говорить.
– Я понимаю, латинская церковь освятила твой брак таинством и жена твоя жива, но это ничего не значит. Если ты захочешь отречься от ереси и примешь истинные символы веры, то можешь быть крещён заново. Найдётся достаточно священников, которые охотно признают твой прежний брак недействительным и повторно женят тебя, хотя бы для того, чтобы досадить латинянам.
– И какой в этом смысл?– спросил я. – В сердце моём я муж госпожи Гиты. Я не хочу нарушать таинства. Сердце моё даже сам Папа не сможет освободить от супружества. Ведь решился я на него по собственной воле.
Анна смотрела на меня из-под опущенных ресниц. Ненависть была в её взгляде.
– Выходит, она значит для тебя больше, чем я. Ничего не могу поделать с тем, что ты растратил свою жизнь в объятиях другой женщины, и что тебе это надоело. Ты уже не можешь даже смеяться. Да, да! Ты не умеешь радоваться жизни. Если бы умел – женился бы на мне. Почему ты не хочешь дать мне покой? Ведь у тебя самого душа не спокойна, что бы ты ни говорил, что бы ни делал.
– Ты не сможешь обрести покой,– ответил я. – Брак без согласия твоего отца, под вымышленными или неполными именами не будет иметь силы. И церковным и светским судом в любую минуту он может быть признан недействительным.
– Да, он может быть признан недействительным,– ответила она. – Но это правовой спор. Не преступление. Почему бы нам ни освятить наш брак перед богом, пусть даже тайно? Тогда я могла бы жить с тобой в твоём домике. Утром я бы просыпалась нагая под одним одеялом с тобой. Неужели, всё это не стоит того, чтобы ты чуточку пригнул свою несгибаемую совесть?
Я внимательно посмотрел на неё:
– Ты мой грех. И он станет ещё большим, если ради тебя я нарушу таинство. В сердце своём я совершаю прелюбодеяние, когда только смотрю в твои глаза или касаюсь твоей руки. Когда я впервые увидел тебя, познакомился с тобой, моё сердце уже открылось для греха. Почему ты не хочешь понять меня?
– А почему ты не можешь быть как все люди и не хочешь немножко поторговаться со своей совестью?– не уступала она. При этом лицо её всё больше и больше краснело. Румянец уже заливал шею.
– Чем дольше я тебя знаю, тем больше люблю,– призналась она. – И это правда. В сердце моём я уже согрешила с тобой, хотя по светским законам ещё не сделала ничего дурного. Неужели ты не понимаешь, что я хочу уберечь и тебя и меня, чтобы никто не смог обвинить нас перед законом, если это, всё-таки, случится между нами.
– Пусть бог будет милостив к нам,– воскликнул я. – Если мы ляжем в постель, грех наш не станет ни больше, ни меньше от того, благословит ли церковь нашу связь. Это касается только тебя и меня. Мы ответственны лишь друг перед другом. Но разве я хоть раз пытался соблазнить тебя? По крайней мере, в этом ты обвинить меня не можешь.
– Конечно, пытался! Глазами. Руками.… Впрочем, это глупый и ненужный спор, потому что говорим мы о разных вещах. Сейчас ты, как все мужчины, взобрался на высокую трибуну и рассуждаешь о принципах. А я, практичная женщина, говорю о том, как нам лучше решить этот вопрос с минимальным ущербом для морали и добропорядочности.
С изумлением я смотрел на неё.
– А всё остальное ты считаешь делом решённым?
– Конечно,– ответила она, бросив на меня взгляд из-под ресниц, словно любуясь моим возмущением.
– В таком случае,– сказал я, – на кой чёрт нам мораль и добропорядочность? Ведь мы взрослые люди. Скоро турки станут у ворот города. Загрохочут пушки. Придёт страх и смерть. И перед лицом смерти не будет иметь никакого значения, состоим мы в формальном браке или нет.
– Спасибо, любимый мой, спасибо,– ответила она с притворной радостью. – Если для тебя всё это не имеет значения, то я, как женщина, конечно, выбираю супружество.
Я хотел схватить её, но она рванулась в сторону, увлекая меня за собой в траву. В её глазах была весёлая насмешка. Она громко смеялась, сопротивляясь мне изо всех сил. А когда я прижал её к земле, она упёрлась руками мне в грудь, напрягла тело и прошептала, закрыв глаза:
– Нет, Иоханес Анхелос, ни за что! Силой ты не возьмёшь меня никогда. Лишь после того, как избавишься от своей латинской ереси, и нас благословит греческий священник.
Наша борьба была волнующей, восхитительной. Но вдруг она замерла, побледнела, открыла глаза и стала смотреть на меня расширенными чёрными зрачками. Потом впилась зубами в мою руку и укусила изо всей силы, словно пыталась вырвать кусок мяса. Я вскрикнул от боли и отпустил её.
– Получил? – пробормотала она. – Теперь веришь? Или ещё хочешь помучить меня?
Анна села, поправила волосы и сидела тихо, прижимая к щекам ладони.
– Неужели, это я?– пробормотала она, наконец, глядя перед собой. – Неужели, я и есть Анна Нотарас? И это я барахтаюсь в траве под латинянином как девка из таверны? Никогда, никогда бы не подумала, что способна на такое.
Она тряхнула головой. Вдруг резко ударила меня по лицу и быстро вскочила. Мне стало ясно: я виноват.
– Никогда, никогда больше не хочу тебя видеть,– процедила она сквозь сжатые зубы. – Я ненавижу твои глаза, твои губы, твои руки! Но больше всего я ненавижу твою совесть. И то чистое пламя. Как ты смеешь плести такую чушь?
Я поправил на себе одежду и молчал.
– Ты права, Анна,– сказал я, наконец. – Так дальше продолжаться не может.
Кажется, я говорил, что мы больше не ссоримся.
31 марта 1453.
Последний день месяца. Скоро всё начнётся.
Кесарь торопится. Сегодня моряки выкопали последний участок рва и заполнили его водой. Может быть, непрочное строение из брёвен и камней выдержит какое-то время.
Работая, моряки часто поглядывают в сторону холмов. Уже не слышно флейт и барабанов. Не видно флагов. Кесарь в серебряном шлеме и панцире в окружении охраны въехал на один из ближайших холмов. Но турок не было видно. Войско у них большое и передвигается медленно.
Сегодня