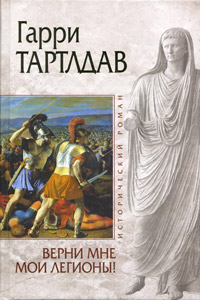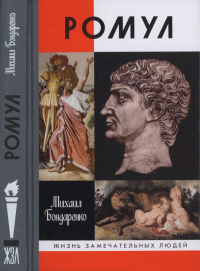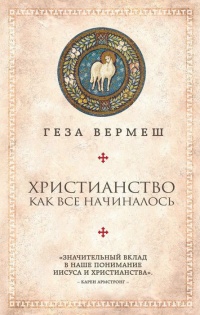встают на рассвете и прогуливаются до солнечного восхода, потом опять ложатся в постель; после обеда они спят, пока не спадёт жара. Вечер они проводят в прогулке и ужинают до поздней ночи.
Нет города, где бы, как в Риме, по случаю постоянного стечения иностранцев было столько различных новостей. Эти слухи занимают свободное время любопытной, болтливой толпы.
Подъезжая к Риму, я увидала в окрестностях величественные дворцы, богатые виллы и великолепные жилища; эти благородные, изящные строения возвышались среди обширных садов, и те из них, которые я посетила, отличались редкой красотой. Эти здания, свидетельствовавшие о прошлом величии, о бывшей силе, казалось, презирали настоящую безжизненность.
Для меня это был первый признак падения, всю глубину которого я теперь лишь точно измерила. Рим — город контрастов; я видела в Корсо процессии кающихся, мешавшихся с маскарадной толпой; бывали папы, желавшие запретить всякое удовольствие, другие же, напротив, даровали слишком короткому карнавалу буллы о его продлении. Св. Амвросий Благочестивый, архиепископ Милана, подарил своей столице карнавалон, в силу которого первые три дня Великого поста уступались веселию и разгулу масленицы.
Мне многие хвалили музеи в палаццо и виллах в окрестностях Рима, но я нашла в этих коллекциях лишь перепутанное обилие материалов, доказывающее скорее тщеславие, нежели вкус. Римский народ не наследовал ничего, что было в крови его предков; когда после пребывания во Франции папство вернулось в Ватикан, — многочисленная толпа европейцев всех наций нахлынула в Святой город, и под наплывом этой массы иностранцев выдохлась римская национальность, так что в Риме иностранцы составляют большинство, а туземцы являются лишь в виде исключения.
Эти римские итальянцы выказывают энергию только в своих суеверных или набожных порывах. Оставаясь холодными при серьёзном, благородном предприятии, они способны волноваться только из-за чувственных наслаждений. Чтобы хорошенько понять эти порочные склонности, надо проследить их в народе, как это сделала я: тогда станут очевидны низкие инстинкты, заглушающие своею пошлостью всё благородное в натуре итальянца.
В Тестаччио или в затибрских остериях итальянец, предавшийся пьянству, игре и пляске, забывает всё, — самое святое чувство он готов променять вечером на хорошенькую, грациозную любовницу.
Когда в вилле Памфилио начинаются осенние празднества на лугах и в лесах, когда в вилле Боргезе открывается ряд восхитительных гуляний, в каждой личности многочисленной толпы, наводняющей эти местности в экипажах и пешком, во всех классах народа проглядывают гордость, высокомерие и наглость, черты, свойственные характеру римских итальянцев.
В вилле Боргезе в сентябрьские и октябрьские вечера танцуют il saltarello, который был всегда в моде и, как кажется, перешёл по преданиям из Этрурии и Кампании. И saltarello малопохож на танец и состоит из мерных движений; его пляшут при звуках тамбурина.
В кругу многочисленных зрителей становятся две пары танцующих, они скачут и качаются, не соблюдая никаких особенных правил или фигур, они то приближаются, то удаляются, выгибая стан, грациозные движения которого напоминают отчасти испанский фанданго. Потом, вдруг выпрямившись, они начинают кружиться вокруг друг друга с неимоверной быстротой, пока движение это не сделается конвульсивным. Затем танцовщица внезапно останавливается неподвижно на левой ноге, вытянув правую ногу и руку, так чтобы кисть руки приходилась ниже локтя, обращённого к танцору. Эту позу я встречала часто в старинной живописи и на этрусских вазах.
Il saltarello не составляет исключительной принадлежности молодости; женщины зрелого возраста часто принимают участие в этом любимом национальном танце римских итальянцев.
Оттуда всего один шаг до Burattini, где римский итальянец предстаёт во всей глубине своего падения. Вырожденный потомок древней расы, жаждавшей кровавых зрелищ и боя гладиаторов, он не ищет более этих ужасных ощущений, он стремится к шуткам Патринелла и Кассандрино: большего не выдерживают его изнеженные нервы; он просто большой ребёнок, которого надо забавлять.
В нижнем этаже дворца Фиано собирается толпа любителей этих представлений марионеток; впрочем, довольно забавные пьесы, даваемые на этом миниатюрном театре, напоминают комедии греческого автора, которого мой учёный наставник, отец Сальви, называет Аристофаном. В них содержатся насмешки над горожанами, мелким дворянством, над коварством сельских жителей, прикрывающихся кажущимся добродушием. Кассандрино, главное действующее лицо, есть тип римского итальянца; то, сходя с ума по музыке, он требует, чтобы восхищались его талантом, менее чем посредственным, и его фальшивым голосом; то, разбогатевший горожанин, он чванится своею важностью, обладая вместо ума небольшою дозою хитрости; когда же дело касается его личных интересов, его тем не менее надувают родственники и любовницы. Если он женится на какой-нибудь хорошенькой поселянке или гризетке, приглянувшейся ему на старости лет, его осаждают бесконечными домашними расходами.
Burattini дают каждый вечер несколько представлений, которые охотно посещаются; они остроумны, часто шутят очень удачно и .выражаются простонародным говором с его пословицами и поговорками, за что посетители им очень признательны. Итальянцы очень усовершенствовали механизм этих марионеток, которые у них лучше, чем где-либо. Откровенная, ироническая болтовня Burattini бывает, однако, вынуждена остановиться и замолчать перед Двором и Церковью. Паскен и Марфорио, эти два древних представителя римской сатиры, были осуждены на молчание. Небольшая треугольная площадь позади дворца Браски, носящая название площади Паскена, украшена старинной статуей, от которой сохранились лишь обломки, свидетельствующие о совершенстве работы; она получила название Паскена, по имени соседнего портного, забавлявшего когда-то всех своими остроумными шутками. Окрестные жители превратили статую в оракул, высказывающий сатиры на общество. Марфорио, живший в Капитолии, задавал вопросы, на которые Паскен отвечал. Возникал саркастический спор, в котором безжалостно отделывались и папа с родственниками, и фавориты, и фаворитки. Того, что терпело много столетий, испугался девятнадцатый век. Римский итальянец говорит, что, с тех пор как Паскену и Марфорио запретили говорить, они умолкли, но тем не менее не перестали думать.
В жизни римлян нет ничего серьёзного; факт этот я могу подтвердить моими наблюдениями во время Великого поста. Они вовсе не постятся, напротив, кажется, они ещё лучше едят в это время; никто не воздерживается от запрещённых блюд; посте обеда они отправляются в церковь, присутствуют при службах и проповедях, и эти самые люди, которые только что нарушили закон, бьют себя кулаками в грудь с возгласами: «Misericordia! Misericordia!»
Обжорство преобладает над всеми свойствами римского итальянца; духовенство в особенности отличается гастрономическими ухищрениями. Существуют рестораны, в которых для молодых аббатов держат особые тонкие, сочные бисквиты. Рестораны утром представляют в Риме то же, что театры вечером. Самый красивый и наиболее посещаемый из них — ресторан во дворце Рюсполи, фасад которого, вышиной в восемь метров, выходит на Корсо. Целый день здесь теснится толпа, приходящая съесть мороженого, выпить шербету, лимонаду или холодных ликёров с сухим пирожным,