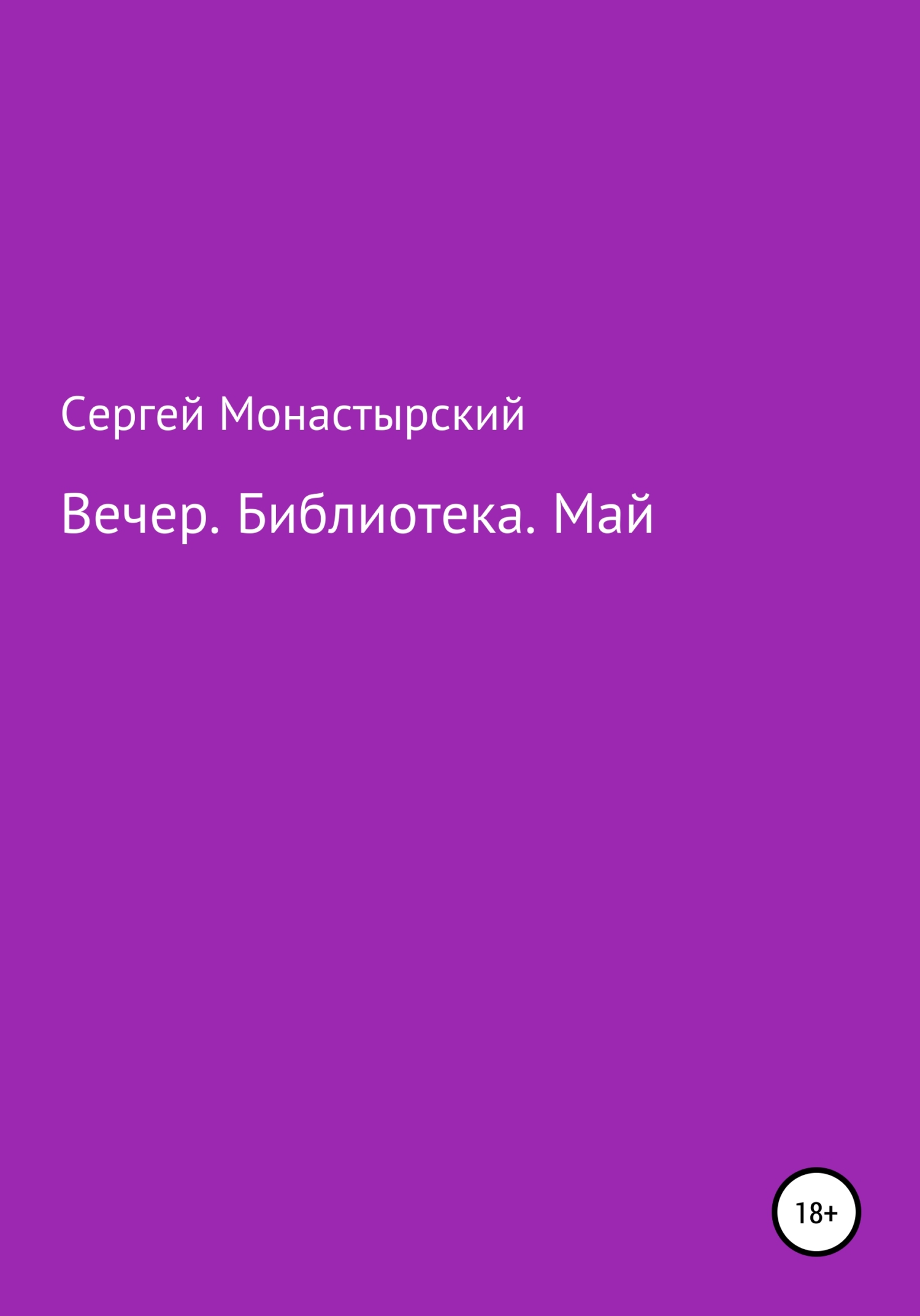которое дает только любовь, она упрекает Марию Кузьминичну — Как ты оставила меня? Тебе хоть стыдно?! Я сколько буду жить, я тебе никогда этого не прощу.
А Мария Кузьминична гладит ее лицо, ее руки и плачет от счастья. Это счастье, когда в старости знаешь, что и жизнь твоя и сама ты нужна любимым людям.
1956 г.
ЖЕНА
Стояла короткая пора бабьего лета. Росными холодными утрами все позже, неохотней всходило солнце. В его косых лучах зябли красные и мокрые верхушки осин, горький желтый цвет осени тронул березы, с них сыпались листья сами собой, без ветра, и пахло в лесу грибами. Но днем солнце грело по-летнему, в прозрачном воздухе хлопьями носилась паутина и блестела на стерне.
— Какую погоду упускаем! — нервничал всю дорогу Вахтин, высовываясь из машины. — Какую погоду!
Мы должны были привезти в редакцию фотоочерк об агрономе Иванникове, человеке довольно известном, о котором уже много писали. Но Вахтин в тайне души надеялся сделать еще цветную обложку для журнала. Всю жизнь фотографируя людей, чем-либо прославившихся, Вахтин верил, что рано или поздно блеснет и его счастливая звезда. Сейчас, в пятьдесят лет, он верил в это еще сильней, и все его мечты слились в прекрасную, глянцевитую, цветную обложку журнала, которую ему до сих пор ни разу сделать не удалось.
Мы приехали утром, и до позднего вечера Вахтин таскал свою жертву за собой. Он фотографировал Иванникова то в трехметровой кукурузе, то с двумя белыми отборными кочанами капусты в руках, то присевшего на корточки между грядками. Иванникову все это было не просто: мешал протез; от него при ходьбе оставался в рыхлой почве глубокий вдавленный след. Но еще мучительнее чувствовал он себя, когда Вахтин, подозвав нескольких колхозниц и соответственно расставив их вокруг агронома, говорил: «Так… Теперь вы объясняете им свои методы работы» — и наводил объектив.
На следующее утро мы пришли к Иванникову домой. Здесь уже все были готовы и ждали. Двое мальчиков, лет девяти и шести, вежливые и встревоженные, поздоровались тихими голосами. Они стояли, ни на что не облокачиваясь, чтобы не помять выглаженных рубашек.
Вахтин профессионально оглядел их, оглядел Иванникова и стянул со своей худой шеи галстук:
— Наденьте…
— Я уж предлагала. Не любит он у нас галстуков: шею теснят, — заговорила жена, улыбкой смягчая этот его недостаток.
Глядя на нее, я тоже невольно улыбнулся, и отчего-то на душе у меня стало празднично. Звали ее Катерина Михайловна; муж звал ее Катей, и выходило это у него бережно. Она была красива спокойной, зрелой красотой, какую только дети дают женщине. Эта красота во всем: в жестах, в полном звучании голоса, в глубоком, теплом свечении глаз. Когда такая женщина встретится вам, вы не запомните платья ее, но что-то доброе и хорошее останется на душе.
Все же Вахтин сказал:
— Покажите мне ваш гардеробчик.
Она охотно открыла шкаф и, пока он, соображая, переводил взгляд с платьев на нее, ждала спокойно, готовая поступить, как ей скажет. Видно было, что одевается она сейчас не для себя — для детей и мужа, и все происходящее не могло ни задеть ее, ни оскорбить. Вскоре она опять вышла. Она чуть раскраснелась и помолодела, светло-карие глаза ее, позолоченные встречным солнцем, улыбались неуверенно, темные волосы, причесанные гладко, блестели. И как-то еще сильней стало в доме ощущение праздника.
Вахтин долго «строил» фотографию, несколько раз заново рассаживал всех, и, когда Катерина Михайловна оказывалась сзади или сбоку где-нибудь, Иванников беспокоился, все хотел что-то сказать. Она мягко останавливала его:
— Вася, товарищ знает.
Собственно, в этот день мы могли бы уже ехать, но Вахтин решил сделать на месте контрольные отпечатки. В доме, где мы остановились, он заперся в темной комнате и вышел из нее только поздно вечером, неся перед собой хозяйкин чистый таз с фотографиями и устало жмуря глаза на свет. Мы вынимали их из воды одну за другой, мокрые, блестевшие под электричеством. Некоторые Вахтин тут же рвал. Против обыкновения он был задумчив.
— Удивительный типаж, — сказал он, показывая Катерину Михайловну на фотографии. Она стояла сбоку, смотрела на мужа и детей, и весь снимок казался мягко освещенным. — В каждой картине, — продолжал Вахтин тоном лектора, — должен иметься источник света. Уберите его, и краски погаснут.
Он молча закрыл лицо Катерины Михайловны, и снимок в самом деле как будто погас, исчезло ощущение праздника. У всех троих были стандартные позы людей, знающих, что их фотографируют.
— Скажите, она чем-нибудь награждена? Медалью хотя бы?
Хозяйка, стоявшая за нашими спинами и тоже рассматривавшая карточки, вздохнула, как она всякий раз делала, прежде чем сказать что-либо.
— Ничем она не награжденная.
Мы посидели еще немного.
— А как бы хорошо… — сказал Вахтин. — Муж — агроном-новатор, жена — известная, скажем, доярка. Досадно…
И он стал раскладывать фотографии для просушки.
— И ничем она не известная, и ничем не знаменитая, — заговорила опять хозяйка, по всей видимости, продолжая свою мысль.
Вахтин поспешно закивал:
— Да, да, да…
Завтра мы должны были ехать рано, и он опасался, что рассказ затянется. Но хозяйка вытерла руки передником и присела на табурет.
— Я ведь их обоих вот такими знала. И на свадьбе у них погулять пришлось. Все было: и свадьба, и гулянье, пожить только не успели — война началась. Вместе их и забрали: Васю и сыночка моего. В Пугачеве-городе они учились сначала. Где это Пугачев?
Я объяснил.
— Вот и другие говорят так. Далеко это от нас… Как стали немцы к Воронежу подходить, прислал мне сыночек одно письмо: «Мама, жив буду — напишу еще. Бои идут агромадные». И с тех пор ни письма, ни извещения. После я уж сама узнавала, люди научили, куда обратиться…
Хозяйка задумалась, глядя в пол. Лицо у нее было строгое, глаза потухшие.
— А Кате похоронная пришла. Только я утром жар загребать стала — прибегает соседка: идем, Григорьевна, Катерина, мол, Иванникова на мужа похоронную получила. Я как услышала, села вот тут на лавке и сдвинуться не могу: вместе ведь они были. Так вдруг страшно сделалось. И опять же раздуматься, чего идти? Горе дели не дели — его от этого не убавится.
Она, Катя, прежде веселая была, бесстрашная, много парней за ней стежки утаптывали. А с этого дня сгасла, как будто нет ее в деревне. И от родителей отдалилась. У них своя жизнь, свои заботы, ее горе для них чужое. Ей теперь его родня ближе стала. Свекровь, правда, не могла простить.