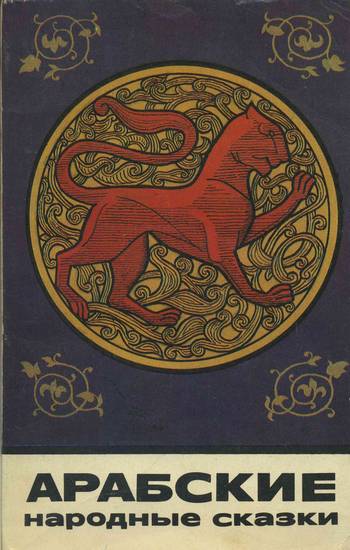его в палаты богатые.
И выходит к нему царевна-красавица, угощает его всякими питьями да яствами, милует, ласкает, суженым называет. А как ночь пришла, повели Илью Муромца в опочивальню, приготовили ему кровать золоченую, постель мягкую: «Ложись, отдыхай, целуй, обнимай».
А Илья Муромец хоть и прост, а догадлив: схватил он царевну-красавицу и положил на ту кровать золоченую. И как положил, так и провалилась кровать в подвалы глубокие.
Посмотрел вниз Илья Муромец — видит: в тех подвалах людей многое множество. Все-то, небось, женихи, все-то, небось, суженые. Побежал Илья Муромец на широкий двор, отыскал дверь в подвалы глубокие, отбил замки крепкие и выпустил всех людей, что царевна заманила, на белый свет из темноты ночной.
Поклонились они Илье до самой земли.
— Спас ты нас всех, Илья Муромец, от смерти лютой.
А Илья уж коня погоняет. Едет он опять к белому камню, стирает надпись старую, пишет надпись новую:
«Ездил по той дороге Илья Муромец, а женат не бывал».
После того подумал он: «Уж не поехать ли мне по третьей дороге? Может, и там обман какой лежит».
И поехал по третьей дороге Илья Муромец.
Видит — погреба толстостенные, обширные. А у погребов этих колоколов понавешано!
Кому нужно богатство — дерни за бечевку, ударь в колокол — и все тут.
Взялся Илья за веревку, ударил в колокол.
Откуда ни возьмись, мужичок с золотым клюшко́м, с золотым ключом.
Отпирает мужичок погреба толстостенные и говорит Илье:
— Бери, богатырь, богатства, сколь тебе надобно.
Вошел Илья Муромец в погреба, поглядел кругом и удивился: везде золото блестит — глазам больно.
Да Илья Муромец никогда на золото не льстился. Посмотрел он направо, посмотрел налево, не взял нисколечко и пошел обратно на вольный воздух, на белый свет.
Сел на коня, вернулся опять к придорожному камню. На белом камне две надписи новые, а третья — старая. Стер он надпись старую и написал новую: «Ездил тут Илья Муромец, а богат не бывал».
Написал такие слова и поехал дальше в родные места, в город Муром, село Карачарово.
Как прибыл домой, обрадовались родители — не ждали они, не гадали сынка увидать.
А Илья смотрит на них, дивится: очень уж прытко старички состарились.
Пожили они еще с месяц и померли. Похоронил их Илья Муромец с почетом, и в скором времени сам преставился.
А всего житья ему было полтораста лет.
Солдат Тарабанов и Саура-слуга
Пошел отставной солдат Тарабанов странствовать. Он шел неделю, другую и третью, шел целый год и попал за тридевять земель, в тридесятое государство. А в том государстве места глухие, леса дремучие, — зашел он в такую чащобу, что, кроме неба да деревьев, и не видать ничего.
Долго ли, коротко ли, плутал он, плутал — и выбрался на чистую поляну. А на поляне огромный дворец выстроен.
Смотрит он на дворец, дивуется — эдакого богатства ни выдумать, ни взгадать, только в сказке сказать! Обошел кругом — ах, дворец! Всем хорош — одного недостает: нет ни ворот, ни подъезда, ни крылечка, ни хода, ни выхода.
Как быть? Глядь — длинная жердь валяется. Поднял ее Тарабанов, приставил к балкону.
— Эх, — говорит, — вывози, кривая! Подымай, прямая! — Напустил на себя смелости, да и полез по той жерди.
Влез на балкон, растворил стеклянные двери и пошел по всем покоям. Чисто, светло, просторно, только пусто, — ни одна душа не попадается.
Заходит солдат в большую залу, глядит: убранство богатое, хорошее, а посередке стол стоит, круглый, будто солнышко. На столе — двенадцать блюд с разными кушаньями и двенадцать графинов с разными винами.
Как посмотрел Тарабанов на этот стол, так и захотелось ему есть. А время-то самое обеденное — полдни. Вот он взял с каждого блюда по куску, отлил из каждого графина по глотку — выпил и закусил.
Умеренно взял, а все-таки с дороги разобрало — потянуло вздремнуть. Залез он на печку, ранец в голова положил, шинелью прикрылся и лег отдыхать.
Не успел задремать хорошенько, прилетают в окно двенадцать лебедушек, ударились об пол и сделались красными девушками — одна другой лучше. Положили они свои крылушки на печь, сели за стол и начали угощаться — каждая со своего блюда, каждая из своего графина.
Вдруг одна де́вица говорит:
— Сестрицы, а сестрицы! У нас нонче не ладно. Кажись, ви́на отпиты и кушанья початы.
— Полно, сестрица! Ты завсегда больше всех знаешь!
Тут солдат поднялся тихонько, руку высунул, да и стянул с печи пару крылушек. Той самой девицы крылушки, что догадливей всех была. Взял и спрятал.
Вот девушки-лебедушки напились, наелись и скорей к печке — крылушки свои разбирать.
Все разобрали, ан глядь — одной пары-то и не хватает.
— Сестрицы, а сестрицы! Моих крылушек нету!
— О-о! Выше всех летала, да ниже всех и села! Ничего! Ты — хитрая — и без крылушек полетишь.
Ударились они об пол, оборотились лебедушками и улетели все одиннадцать в окно. А двенадцатая осталась. Мечется по горнице, плачет.
— Ах, беда, — говорит, — ах, беда!
Жалко стало солдату. Вылез он из-за печки и говорит:
— Да не горюй ты! Это я твои крылушки прибрал.
Она и так и эдак.
— Сделай, — говорит, — милость, отдай! Не пожалеешь!
А он головой качает.
— Нет, — говорит, — пожалею! Уж ты плачь — не плачь, проси — не проси, а не видать тебе твоих крылушек. Оставайся со мной!
— Как так?
— А так. Иди за меня замуж! Станем вместе жить.
Она пуще плакать. А потом глядит: парень видный, на груди — медаль… Опять же — солдат, бывалый человек — знает, какой рукой усы крутить… Ну, и согласилась.
Повела она его в подвалы глубокие, отперла большой сундук, железом окованный, и говорит:
— Ну, забирай золота, сколько снести можешь, чтобы было чем жить — не прожить, было бы на что хозяйство водить.
Тарабанов рад стараться, насыпал полны карманы золота. Потом ранец с плеч, давай добришко свое разбирать. Старые рубахи прочь, и портянки туда же — не жалко!.. Опростал ранец и набил доверху золотом.
Собрались, значит, и пошли вдвоем в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли, вёдром ли, погодкой ли, — пришли в столичный город.
Стали на квартиру, живут — лучше не надо.
Они себе живут, а деньги плывут.