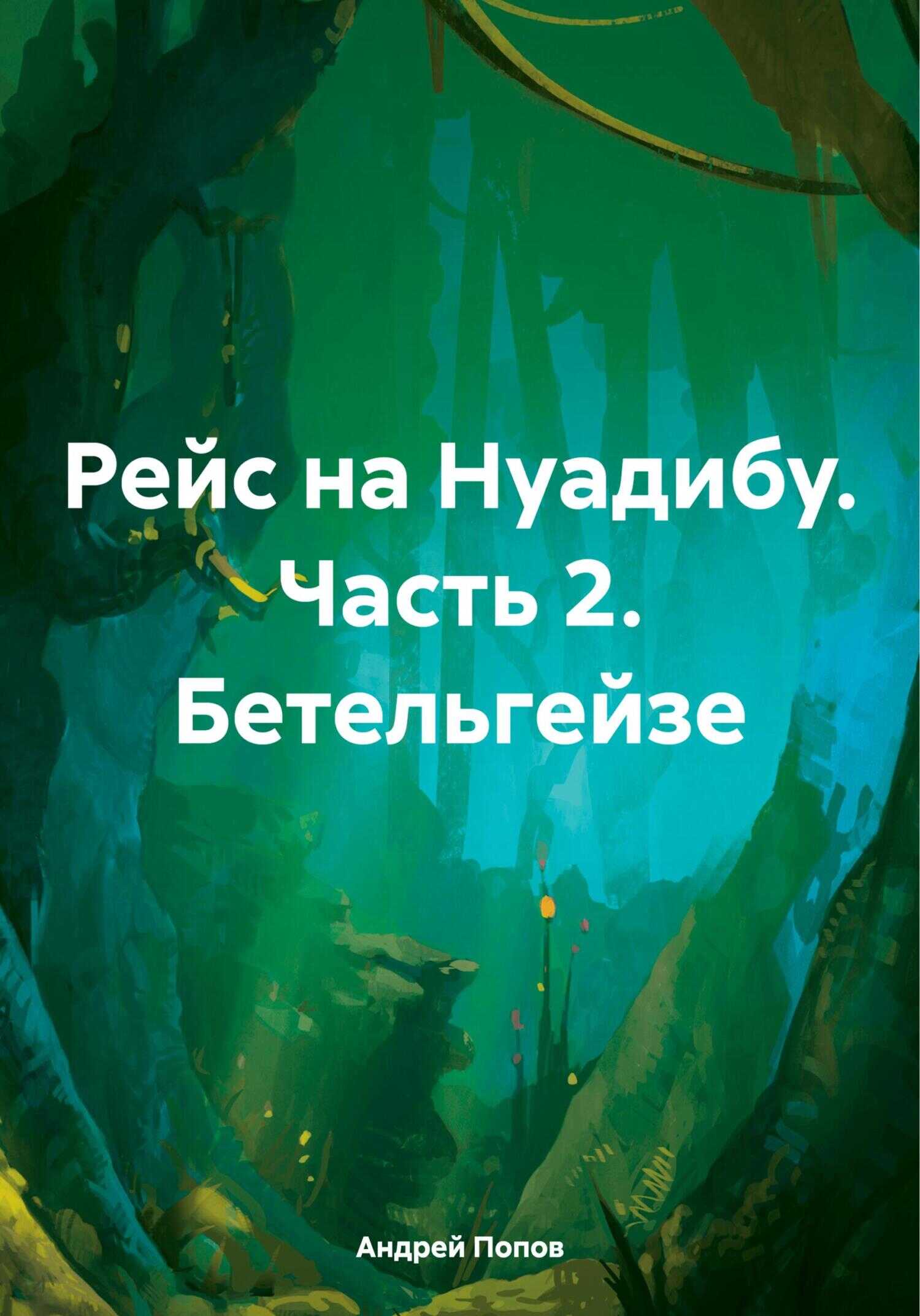стол складную иконку и стала молиться. В неплотно прикрытую дверь виднелась ее сгорбленная спина, серые подошвы подшитых валенок и слышался неясный шепот.
— За что, господи, за что наказываешь?
Катя уставилась в одну точку в стене, оцепенев от внутренней боли, сейчас она не верила ни в помощь Андрея, ни в чудо, что брат выживет. Слишком далеко зашла болезнь, а на дворе весна и у брата очень опасный возраст для такого заболевания.
Прощаясь, бабушка с внучкой не стали утешать друг друга, боялись вымолвить фальшивое слово.
После телеграммы целых три дня от Андрея не было никаких известий. На четвертый Кате принесли вызов на телеграф. Нина поехала с нею.
Апрельский день сиял над городом. Сухо, тепло, и уже появились на улицах поливальные машины.
Подруги ехали в трамвае, сидели у окна. Всю дорогу их провожали огромные надписи на облупившихся стенах домов, с длинными указательными стрелами: «Вход в бомбоубежище».
В первую военную осень им частенько доводилось отсиживаться в этих самых подвальных бомбоубежищах с распорядительными дежурными из домоуправлений. Прятался в них как-то и Слава, когда приезжал навестить сестру.
На телеграфе, как на вокзале, было полно ожидающих. На весь зал звучали названия городов и приглашения зайти в кабину.
Екатерина волновалась: где-то в Берлине на телеграфе сидит сию минуту Андрей, и вот-вот она услышит его голос, пролетевший через пограничные кордоны.
— Здравствуй, Катенька, — поздоровался муж каким-то не своим, тусклым, без живых интонаций голосом, и сердце сразу стало точно проваливаться куда-то.
Прильнув к стеклу приплюснутым носом, стояла по ту сторону кабины Нина. Ее широко распахнутые глаза следили за подругой.
— Сядь, Катюша, не видишь, что ли… — приоткрыв дверь в кабину, громким шепотом проговорила она.
Катя нащупала свободной рукой стул, села. Сердце понемногу возвращалось в привычный ритм.
…Получив от жены «молнию», Андрей в тот же день сумел вылететь к Славе в госпиталь.
Повидав за войну не мало смертей, майор не ожидал, что его так растревожит кончина Славы. Но те смерти были на поле боя людей здоровых, только что бежавших и кричавших «ура», а тут перед ним лежал до костей изглоданный болезнью, уже почти без признаков жизни, юноша с льняными волосами.
Не веря своим глазам, Андрей шепотом окликнул его по имени и в тот же миг увидел устремленный на себя потухающий взгляд. Он сначала ничего не выражал, а потом налился знакомым до боли огоньком радости, а склеенные губы с трудом разомкнулись.
— Андр-рю-ша… — с видимым усилием, будто по слогам, произнес Слава, собрав последние силы.
Под изголовьем у него нашли в блокноте нацарапанное карандашом:
«Я знаю, что умираю… Бабушка и Катя, простите ли вы меня? Мне сейчас пришло в голову, что, возможно, утаив о своей болезни, я поступил с вами жестоко. А может, и нет? Разом оплачете вашего неудачника Славку».
Эта записка, письмо врача и посылка с вещичками солдата, с двумя шелковыми женскими рубашками, приготовленными в подарок, где-то трясутся теперь в почтовом вагоне.
Скоро низенькая, заплаканная старушка, шаркая больными ногами, понесет с почты посылку в деревянном ящике, точно маленький гроб, по хорошеющим с каждым днем после войны улицам городка, по которым она когда-то, не помня себя от радости, несла из родильного дома новорожденного внука.
Глава 3
Данила Седов, отвоевав почти два года, успел поздравить Нину с днем окончания войны. А через два месяца к ней пришла похоронная из Берлина с письмом из части:
«Злая пуля засевшего на чердаке эсэсовца оборвала жизнь капитана Седова уже в мирное время. Горе товарищей, хорошо знавших его, не имеет предела… Мужайтесь, Нина Александровна, мы всегда с вами…»
— Катя, Катя, не может быть, нет, так не бывает! — кричала Нина, принимаясь в сотый раз перечитывать последнюю весточку Данилы. — Смотри, он писал: «Жди меня, теперь уже все позади!» А ты знаешь, он меня никогда ни в чем не обманывал. Скажи, разве это не так? — подступала к подруге Нина, умоляюще и требовательно заглядывая в ее глаза.
Тогда не выдерживала Катя и под каким-нибудь предлогом выскакивала из комнаты, чтобы украдкой выплакаться. Она понимала Нину: надеяться и ждать, потом быть твердо уверенной, что наконец-то дождалась, и вдруг… удар! Не всякий человек мог вынести такое! Нина заболела. Она почти не спала, таяла на глазах и на ампутированную в ступне ногу нельзя было наступить.
— Пусть она поживет у нас, пока не придет в себя, — сказала как-то Аграфена Егоровна внучке, сердясь на ее недогадливость. — Давно предложила бы это сама.
— Не раз, бабуся, думала, каюсь, да боялась. Не молоденькая ты у нас, тебе нелегко с хозяйством управляться.
— Ну, на доброе дело сил хватит! — возразила бабка.
В погожие дни Нина с утра до вечера полулежала в гамаке в саду, лениво перебирая спицами. Катя снабдила ее вязанием, — до осени хватит! И варежки Наденьке нужно и свитерок. Хитрая, — спасает от тоски, от дурных мыслей. Думать при вязанье и впрямь некогда: знай себе петли считай!
Когда Нина уставала, подзывала Наденьку: просила рассказать о подружках, о ребячьих делах.
После работы приезжала домой Катя, в Москве не оставалась. Тогда Нине совсем хорошо: костыль под мышку и вдвоем до леса.
Первой начинала Катя, рассказывала, как жилось с Андреем во Владивостоке, как родилась дочка. Воспоминания волновали ее, глаза блестели, на похудевших щеках разгорался румянец.
В такие минуты горе Нины будто отступало куда-то. Было и у нее, как у Кати: любовь, семья. Данила любил ее не меньше, чем Андрей свою Катеньку. Да, было!..
Нина сидела на пне под березой, костыль лежал рядом, примяв траву с ромашками. Она не сразу поняла, что плачет: текли и текли по щекам слезы. Хотела скрыть их от подруги, но Катя увидела, осеклась на полслове. И уже, что совсем не ожидала от нее Нина, вдруг попросила:
— Расскажи-ка мне про Даню. Небось многое найдется, чего я не знаю…
Лицо Нины выразило удивление; еще только сегодня она думала: нельзя, слишком больно касаться того, что навеки оборвалось со смертью Данилы! Хотелось забыть все, хотя бы на первое время, вырвать из памяти.
И все же, может, Катя права: нужно говорить, вспоминать и тогда, наверно, станет легче, особенно по ночам…
И тут Нине вспомнился один случай, как Данила, перевозя ее к себе, послал за вещами заводской грузовик.
— Можешь себе представить, Катя, зрелище? Я тебе, кажется, не рассказывала. Подъезжает эдакая махина к крыльцу, Даня на улицу, а шофер развеселый надрывается