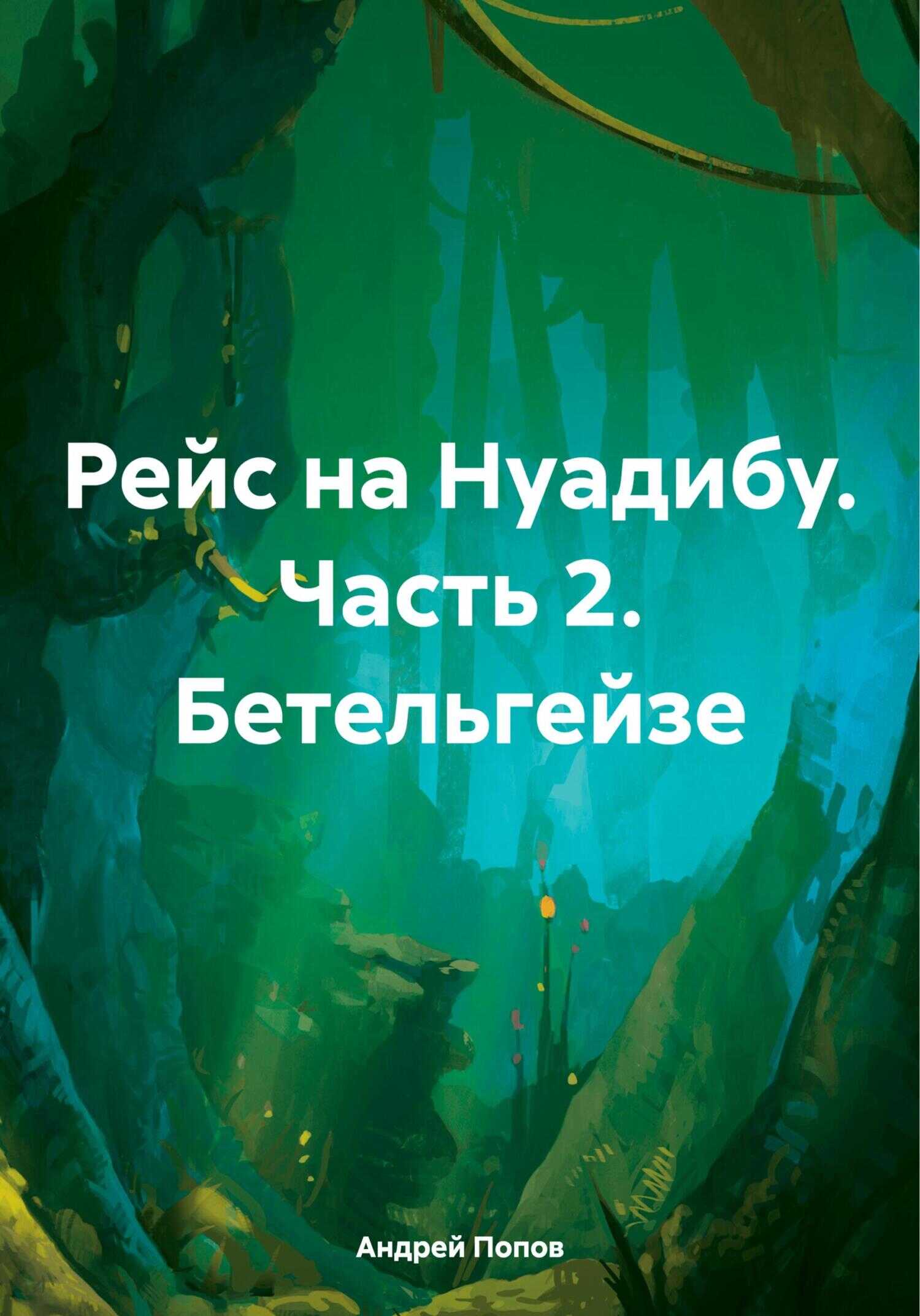свои думы.
Катя искренно дивилась:
— Не выдумывай, бабушка, никаких происшествий нет. Да и быть не может. Просто скучает парень, немного тяготится подневольной жизнью и писать особенно нечего!
Когда Катю в городке окликнула незнакомая женщина, отрекомендовавшись Анной Семеновной, матерью Тамары, с которой Слава учился в одном классе, она не сразу поняла, почему та заговорила с ней. Женщина мялась к как будто не рисковала сразу высказать что-то. Катя нетерпеливо поглядывала на нее.
— Слышь, отойдем-ка в сторонку, вон кстати и скамеечка, — словно переборов в себе какую-то преграду, настойчиво предложила Анна Семеновна. Полное, доброе лицо ее, тронутое морщинками, выражало растерянность и сочувствие. — Слышь-ка, ты сестра ему, что ли, доводишься? Болен ваш Слава, опасно болен. Вот дочка мне из Риги его письмо переслала. Только он просил не говорить вам…
Анна Семеновна из-за пазухи извлекла конверт и сунула его Кате в руки.
Екатерина машинально взяла, глазами пробежала адрес, написанный родным почерком Славы со старательно выведенными заглавными буквами.
— Читай, читай. Не до секретов теперь. Болей парнишка-то, по госпиталям возят.
Женщина всхлипнула, а Катя еще ниже наклонила над письмом голову.
«Так вот почему ты писал нам всего несколько строк, — вспыхнула догадка, — Славка, милый, что же ты наделал, зачем скрывал от нас?»
«Тамара, я смертельно болен. Если вытяну счастливый жребий и выживу, мое место в сторожах. Мне девятнадцать, а я скитаюсь по больничным койкам. Было у меня небольшое затемнение легких, но, кажется, прошло. Однако меня перевели все-таки на более легкую службу — связистом. И вдруг выкупался однажды с товарищами по отделению в Одере, выкупался и… свалился. Открытая форма туберкулеза. Проклятые палочки Коха давно, видно, скрытно делали свое черное дело и лишь ждали случая!
Было плохо, потом получше, а сейчас опять состояние ухудшилось. Я слаб и немощен, как старик или ребенок. Прости за мрачное письмо, я никому не писал, даже родным. Бабушка и сестра до сих пор думают, что я служу, и ждут меня домой. У меня не поднимается рука сказать им правду о своем положении. Они уже столько пережили из-за меня… Я не раз брался за карандаш, начинал писать и… рвал. Есть всему предел, зачем бабушке и сестре без конца страдать из-за меня? А ты, Тамара, прислала мне нежданную весточку, и я не могу остановиться, не высказаться перед тобой. Жизнь на волоске, а я даже не видел молодости. Было детство, была школа и мои несовершенные стихи и все… А впереди мрак!»
Катя вскочила со скамейки: нужно было что-то срочно делать: бежать на почту, дать Андрею телеграмму, чтобы связался, если сможет, с госпиталем и постарался увидеться с братом. Вдохнуть в Славу надежду и спасти, спасти!
— Да постой, да ты куда? — тормошила Катю женщина, пугаясь ее глаз, ее лица без кровинки. — Да ты в себе ли, деточка моя?
— Не задерживайте, Анна Семеновна, дорога каждая минута. Вы читали, он пишет… — Она хотела сказать «при смерти» и не смогла, зарыдала, закрывая лицо руками.
— Сумку-то с продуктами хоть домой отнеси, — посоветовала женщина. — А то давай я снесу?
— Нет, нет, я сама. Ничего нельзя говорить бабушке, это убьет ее…
Всю дорогу до почты, перекладывая тяжелую сумку из одной руки в другую, Катя думала, что предпринять и как быть с бабкой?
Потом ее настигли воспоминания о таком же вот воскресном дне, проведенном вместе со Славой, когда они еще были оба школьниками. Они возвращались из леса с веточками распустившейся вербы, смеялись над своими мытарствами по рыхлому снегу. У брата шапка сдвинута набок с поднятыми, но незавязанными ушами, русые волосы спадают на лоб. Блестят глаза, а щеки розовеют от лесного воздуха. Городок с трех сторон обступает лес, голубовато-сизую стену его видно из окон, а улицы насквозь продуваются настоянным на хвое ветром.
Слава потерял варежку и заранее готовил себя держать ответ в стихах перед грозной бабкой. Здоровье, ощущения счастья жизни, — все с ними и, кажется, так будет вечно!
Невозможно представить брата прикованным к больничной койке, немощным и слабым.
На почте работали знакомые девушки, они знали Славу и приняли телеграмму вне очереди.
На обратном пути Катя плелась нога за ногу, бессознательно оттягивая встречу с бабушкой. Присев на чью-то скамейку у палисадника, Катя вновь перечитала письмо брата с тайным желанием выудить хоть какую-нибудь надежду из его строк. Может быть, она что-то опустила вгорячах, преувеличила?
Нет, все оставалось то же, с криком боли: «Где молодость, где будущее?»
— Катя, а ты загулялась… — начала было Аграфена Егоровна, открывая дверь, но, взглянув в лицо внучки, смешалась.
— Ой, никак случилось что? Со Славочкой, да? Дорогой мой внучоночек… — закричала бабка, и у нее подкосились ноги.
Катя вовремя поддержала ее, довела до кровати, не переставая говорить.
— Бабушка, бабушка, опомнись, нельзя так! Мы выходим Славу, спасем. Андрей привезет его. Я дала ему «молнию». Дома стены помогают. Может, еще ничего нет опасного, мало ли что Слава написал этой Тамаре.
Последнюю весточку Славы они получили два дня назад, — все тот же примелькавшийся треугольничек и почти с теми же словами. Они теперь вглядывались в него, брали на подозрение каждую буковку. Почти целый год, — страшно представить, — они ни о чем не догадывались. А у него изменились не одни письма, а и номер почтового ящика, что он объяснил переводом части в другое место. Не часть, а Славу перевели в госпиталь, и он утаил это, решив молчать до конца.
«Если выживу, то приеду и дома обо всем узнают. Ну, а если мне суждено на роду умереть, — что ж, они тоже узнают, им, надо полагать, сообщат по всей форме…» — писал он в письме к Тамаре.
Среди ночи от Андрея принесли телеграмму. «Принимаю меры. Берегите себя». И Катя с бабушкой, уже не обманывая друг друга, что будто спят, оделись и просидели до первой электрички.
В неясном свете наступающего утра лица у обеих выглядели серыми, утомленными. От усталости они почти не говорили между собой, думая о Славе в госпитале… Как ему, наверно, одиноко там, горько и тяжело от безотрадных мыслей. И как хочется домой, вот в эти невысокие комнаты с изразцовой печкой и окнами в палисадник!
«Бедный мой страдалец, пусть бы мне, зажившейся на свете старухе, выпали на долю твои муки, пусть во сто крат увеличенные, лишь бы избавить тебя. Есть ли после этого справедливость, бог в небесах? Сколько раз я сомневалась в тебе, господи, и теперь сомневаюсь!»
Аграфена Егоровна прошла в спаленку, поставила на