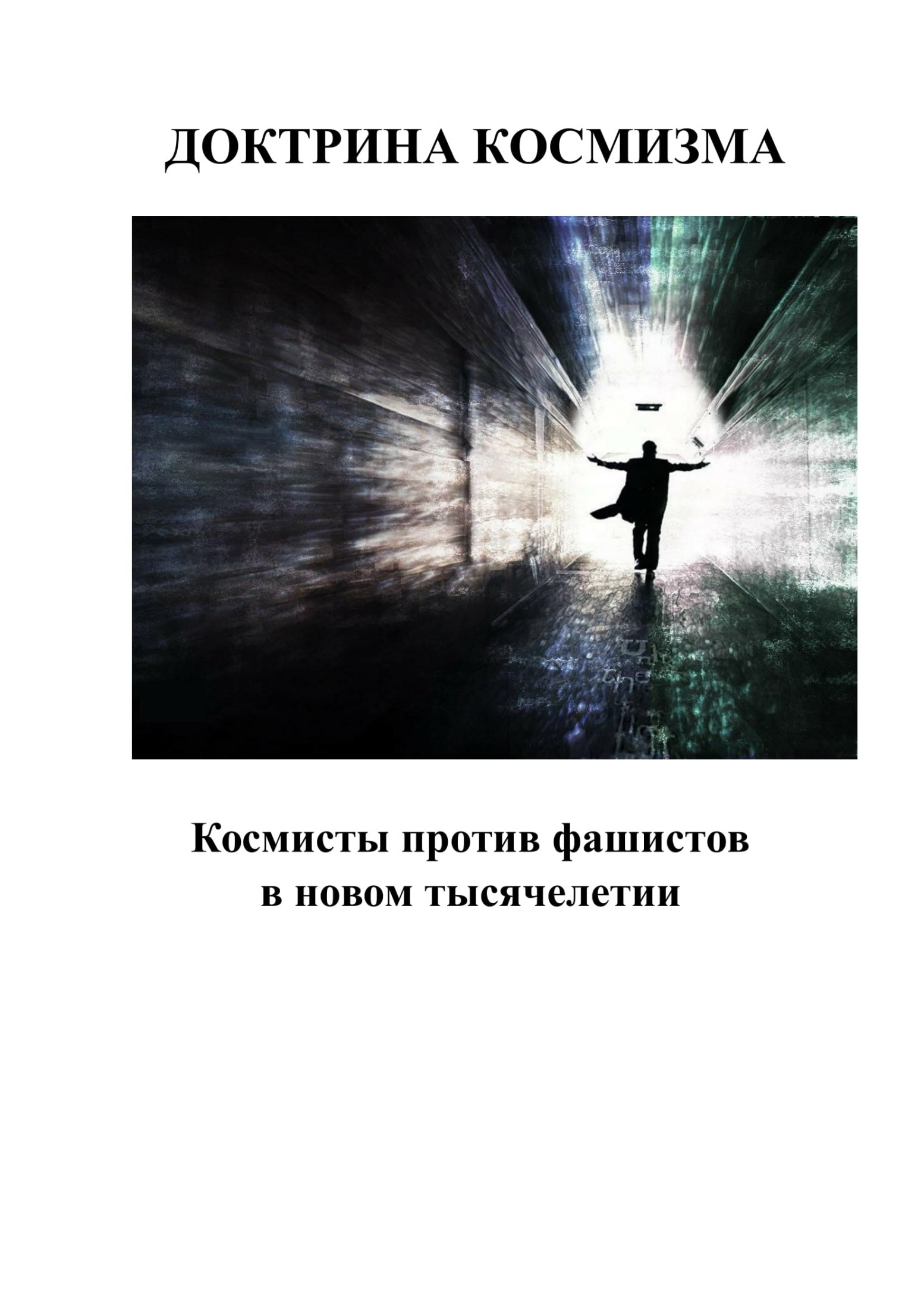в которых проявляется „неразумное желание жить“. Именно они-то и влекут нас к разным приманкам и к целям, не имеющим ничего общего с нашим благополучием и нашим счастием, к — целям жизни и вида, противоположным тем целям, которые, повидимому, должна бы ставить себе сознательно стремящаяся к счастию личность.
Таким образом, теория мировой Воли, по отношению к обоснованию пессимизма, имеет значение собственно лишь настолько, насколько служит к доказательству: 1) отсутствия эвдемонистической целесообразности в мировом процессе, в его целом и частностях, и 2) присутствия в строении организмов известной биологической целесообразности, связывающей их с космическим целым и с другими индивидуумами, и подчиняющей целям стихийного мирового процесса и интересам вида. Оба эти положения составляют одинаково существенную часть пессимистического учения, и Гартман напрасно полагает, будто достаточно первого из них и „пессимизм с необходимостью вытекает из метафизических принципов слепоты и неразумности Воли и обусловленного только слепою и неразумною Волею существования мира“. Слепота и неразумность сил, обусловливающих существование мира, и вытекающее отсюда отсутствие эвдемонистической целесообразности в мировом процессе создают только вероятность в пользу вывода о неприспособленности людей к счастию, но нельзя сказать, чтобы подобный вывод навязывался „с необходимостью“. Может быть, дело обстоит именно так, но гипотетически можно предположить и то, что слепые и неразумные силы, стесненные необходимостью создать организмы приспособленными к жизни. создали их, — попутно и мимоходом, — приспособленными и к счастию. Отсутствие эвдемонистической целесообразности в ходе мировых процессов не доказывает еще, следовательно, истинности пессимизма, и созданная им в пользу последнего вероятность нуждается еще в подтверждении иными путями. Пессимисты впрочем и сами понимают это и потому сосредоточивают мощь своей аргументации преимущественно на разъяснении значения биологической приспособленности организмов к жизни. Здесь собственно и заключается ключ к позиции, занимаемой пессимизмом. Разбитый здесь, он поражен в конец на всех пунктах и, наоборот, победит по всей линии, если одержит верх в ее центре. С первого взгляда, конечно, кажется даже парадоксальным искать в приспособленности к жизни аргументов в пользу пессимизма, т. е. неприспособленности к счастию. Но, — как мы уже сказали, — пессимисты видят в приспособленности к жизни ту цепь, которая приковывает нас к миру, а в инстинктах, служащих проявлением этой приспособленности, — те звенья, из которых цепь наша скована. Они утверждают, что приспособленность к жизни, слагавшаяся, на почве, данной стихийным мировым процессом, и приноравливавшаяся всегда к развитию жизни en masse, в родах и видах, создала и организовала, вместе с тем, подчиненность личности космосу и виду... Последуем же за ними в разборе отдельных инстинктов, который и даст затем материал к построению общей картины.
IV.
Два самых могущественных побуждения в живых существах, без сомнения, — любовь и голод. С последним из них пессимистам порешить было нетрудно. Всякий признает в голоде могучий фактор культурного прогресса, но зато никто не будет защищать его, как источник удовольствий. Как ни прихотливы мифологические создания людской фантазии, но ни один народ или народец не сделал еще из голода божество и не воздвиг ему хотя бы самой дешевенькой статуи. Голод — это несмолкаемый, нестерпимый, режущий ухо крик ребенка, которого нечем накормить; это — властный, неумолимый сборщик податей, повелительно требующий уплаты; барин, в чью пользу в поте лица отбывается барщина; непреклонный распорядитель людского труда и времени; идол, которому приносится в жертву все самое дорогое и святое для нас. Голод обращает земной шар в арену непрерывной борьбы существ между собою, борьбы единственно ради утоления этого физического чувства. Ничто не мешало бы тварям жить мирно и дружелюбно в доброжелательном соседстве, еслиб — не голод. Но так как процесс взаимного пожирания с целью утоления голода составляет один из основных конституционных законов развития жизни на земле, то Шопенгауэр не без основания замечает, что стоит только сравнить ощущение зверя, который пожирает другого, с ощущением последнего в тот момент, когда с ним происходит это маленькое приключение, чтобы решить: преобладает ли удовольствие над страданием в процессе жизни или, по крайней мере, уравновешиваются ли эти два рода ощущений?... Но даже, махнув рукою на борьбу пожираемых нами животных и успокоив свою совесть тем, что в настоящее время пожирание это по большей части совершается под наблюдением и санкциею обществ покровительства животным, — мы должны будем признать, что и в пашей человеческой среде голод является импульсом братоубийственной войны, массовой и одиночной, и взаимного пожирания в разнообразных формах. Только утолив голод, умеем мы быть человеколюбивыми, великодушными, добрыми, и горе ближнему, если он попадется нам под руки в то время, когда мы хотим есть. Этот страшный деспот, имя которому „голод“, портит нашу нравственность, коверкает лучшие наши стремления и наделяет всеми пороками зверя и раба... Словом, голод — инстинкт несомненно мучительный и требовательный, удовлетворение которого не доставляет никакого удовольствия, но поглощает почти всю жизнь, весь труд и все время человека. С точки зрения пессимистов, как и со всякой другой, удовлетворение его но может быть рассматриваемо в качестве „нашей“ цели. Это, напротив, жестокая, железная необходимость, все равно — навязана ли она нам мировою Волею, или законом жизни, стихийно сложившейся из космических атомов. О „наших“ целях может быть речь только по удовлетворении голода, по отбытии этой барщины. Весь ход культурного прогресса человечества может быть резюмирован в виде гигантской борьбы с голодом, — стремления отделаться от его тирании и отвоевать у него хоть сколько нибудь досуга и свободы. На достижение иных целей мы можем посвятить только силы и время, остающиеся свободными после отбывания барщины голоду, и только их можем посвятить на развитие роскоши и комфорта культурной жизни. Притом, в настоящее время, подобных свободных сил никогда еще не было, и современная цивилизация скорее „украдена“, чем отвоевана у голода: народные массы должны были недоедать, обманывать голод и выносить зато его суровые кары, для того чтобы меньшинство сделалось свободным и пользовалось досугом...
Да, конечно, если бы вся наша жизнь уходила на удовлетворение требований голода, то всякий признал бы „неразумность желания жить“. Но ведь, временами, мы сбрасываем цепи рабства и следуем другим влечениям, доставляя себе удовольствие и наслаждение, вознаграждая себя за долгие часы барщинной работы — удовлетворением более возвышенных потребностей нашей природы. Вот, напр., любовь. В вопросе о любви пессимисты, без сомнения, встретят массу противников: — молодых, прекрасных, полных жизни „рыцарей“, с пламенными очами и свежим румянцем на щеках, и обладающих теми же качествами