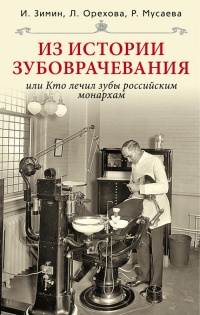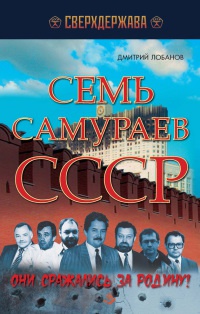чего доброго, посадить их на колени или, на правах хоть и неродного, но все-таки отца, как бы машинально приласкать, не прерывая при этом речи о квадратных корнях и прочих сомнительных сущностях? Характерно, что Лев Львович, которому и в голову не могло прийти отнестись к сироткам иначе, как с сочувственной печалью, довольно долго не мог даже вообразить, в какой удивительной гнусности его подозревают, — и, когда она, в какую-то особенную минуту, высказала ему свои страхи открытым текстом, он не расхохотался ей в лицо, как сделал бы иной на его месте, а погрузился в меланхолическую растерянность.
Это не развеяло вполне ее подозрений, но на время снизило их накал. С новой силой они разгорелись, когда Мамариной через три года брака удалось наконец забеременеть. В журналах «Дамский мир» и «Женское дело», которые она выписыва-ла, рассказывалось, что в этот период дама, готовясь исполнить «главную свою жизненную задачу» и «предчувствуя появление в своей жизни кое-кого особенного», делается чрезвычайно нежной и чувствительной, «испуская (sic!) чудесное сияние, благодаря которому она как бы светится изнутри». Мамарина, даром что читала эту приторную дребедень, сдобренную, впрочем, щепоткой гражданского пафоса, от корки до корки, изнутри отнюдь не светилась, а, напротив, превратилась в совершеннейшую фурию. Беременность, несмотря на ее почтенный для роженицы возраст, протекала хорошо, если не считать находивших на нее все чаще приступов почти неконтролируемой ярости, главным объектом которых сделались несчастные сиротки. Казалось, сам их вид вызывал у нее непобедимое раздражение: она могла посередине чинного воскресного обеда, сидя во главе стола (чуть отодвинувшись от его края, чтобы поберечь округлившийся уже живот), вдруг запустить фарфоровой чашкой, целясь в голову одной из девочек. Когда же та, кое-как увернувшись, вся в брызгах выплеснувшегося из чашки молока, прятала глаза, чтобы не встретиться с ней взглядом, Мамарина выхо-дила из-за стола и, тяжело ступая, удалялась к себе в спальню, где и запиралась, к тайному облегчению домашних, до позднего вечера.
Роды прошли благополучно — и на свет появилась девочка, которой предстояло сыграть столь значительную роль в моей судьбе (как, впрочем, и мне — в ее). Месяца за три до торжественного события Мамарина сговорилась со знаменитейшим из вологодских докторов, Францем Францевичем Риттером, за которым послали с началом потуг — и выяснили, что накануне вечером, возвращаясь после приема, почтенный старик зацепился на набережной Золотухи за вывороченный камень булыжной мостовой, упал, потерял палку, сломал ногу и выбил себе два передних зуба. Случившееся так подействовало на него, что он на некоторое время задержал отправленную за ним повариху Жанну Робертовну, шепеляво объясняя ей, до какой степени в случившемся несчастье виноваты отцы города, не озаботившиеся вовремя освещением улиц и ремонтом мостовой, и до какой степени неповинен сам доктор, который, несмотря на преклонный возраст, все еще совершенно молод душой и телом. Все это он произносил, пока молодой коллега и ассистент хлопотал, упаковывая в гипс его поврежденную ногу, — и только потом, выведя Жанну Робертовну в коридор, извинился за чрезмерную разговорчивость патрона, которому ради анестезии пришлось дать ударную дозу опия. В результате, поскольку медлить было нельзя, послали за первой попавшейся акушеркой, чуть ли не простой бабкой-повитухой, жившей где-то неподалеку, которая и помогла Мамариной разрешиться от бремени, даром что не только, в отличие от Риттера, не заканчивала Мюнхенский университет, но, кажется, и вовсе была неграмотной.
На третий день после родов Мамарина послала ту же Жанну Робертовну с запиской в Александровский приют, откуда пять лет назад взяты были ее приемные дочери. В записке содержалось вежливое, но недвусмысленное требование как можно скорее забрать их обратно в казенное заведение, поскольку их (особенно младшей) скверные характеры и дурное поведение заставляли ее, Мамарину, беспокоиться не только о будущем влиянии, которое они могут оказать на ее новорожденное дитя, но даже и испытывать опасение по поводу его, дитяти, физической безопасности. Директриса приюта, несколько фраппированная таким оборотом (за двадцать три года работы ей не приходилось сталкиваться с тем, что ребенка сдают обратно, как лошадь с запалом вернули бы заводчику), явилась на другой день к Мамариной самолично: та ее не приняла. В последующие несколько дней они обменялись несколькими письмами: что в них было, я так и не знаю, но, вероятно, какие-то доводы в пользу своего решения она привела — либо просто пригрозила директрисе навлечь на нее или на ее учреждение какие-нибудь неприятности. Вряд ли она обладала достаточными для этого связями в столице (где, кажется, и не бывала никогда, разве что в юности), но губернские знакомства были у нее самые широкие, так что противником она могла оказаться опасным. В результате, как и следовало ожидать, директриса сдалась и пообещала прислать приютского сторожа забрать девочек.
Для характеристики момента замечательно, что никто из домашних до самого последнего дня не знал о принятом ею решении: она сообщила о нем только в тот день, когда за девочками должны были приехать. Собственно, тем самым утром, когда мы познакомились, незадолго до того, как отправляться в церковь крестить новорожденную, она приказала Клавдии собрать их вещи и приготовить все к отправке в приют. Несколько ошеломленная таким оборотом Клавдия, которая была к ним по-своему привязана, дважды переспросила: сперва она, чистая душа, предполагала, что девочек переселяют на какое-то время, покуда не спадет первая суета с малышкой, — и пыталась даже Мамарину успокоить, убеждая, что все вместе, да еще с приглашенной кормилицей, они без труда справятся. (За кормилицей ездили накануне в родовспомогательное заведение для бедных, расположенное при том же приюте, — и Мамарина, словно на невольничьем рынке, обходила искательниц места, оценивая их потенциальную пригодность каким-то подспудным крепостническим чутьем, даром что сама была из простых.) Выяснилось, однако, что бедняжек отправляют навсегда — и поэтому к моменту, когда я так несвоевременно заявилась в их дом, атмосфера там была тревожной и накаленной.
Впрочем, ко вторнику (девочек увезли в воскресенье) все уже успокоилось. Рундальцов был на службе, так что принимала меня Клавдия, к внешнему виду которой я почти успела привыкнуть. Моя просторная комната была чисто выметена, причем отмыты были даже окна; вероятно, ради особенного уюта туда снесена была со всего дома лишняя мебель, отчего парадоксальным образом она стала напоминать лавку старьевщика, в которой после смерти владельца-банкрота приставы описывают имущество. Впрочем, в быту я неприхотлива, а все нужное в комнате было: платяной шкаф, трюмо, кровать, секретер с откидывающимся столиком и три разномастных стула. Отдельно стояла ширма с изображением китайских сеятелей риса: по широкой, теряющейся