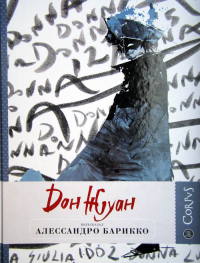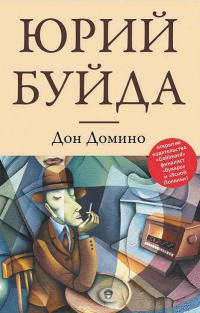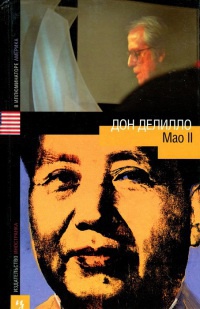– Это где же такое написано, чтобы порчь тыловая боевых офицеров досматривала? – Нет, не сам он, Зворыгин, взыграл – из толпы за спиной кто-то выступил и отчеканил, ровно как со зворыгинских слов и зворыгинским голосом. – Как-то это негигиенично.
– Это кто там такое?! – Старлей, по-гусиному вытянув шею, убивающе впился глазами в толпу. – Надо будет – вы мне тут…
– А мы не желаем! Может, вы еще нас до порток тут разденете – на предмет ухищренно сокрытых мужских причиндалов? На каком основании, старлей? Покажите мандат. – Капитан в летной форме как встал за плечом у Зворыгина, так и врос истуканом в асфальт и смотрел на проверщика с давящей силой, не трудясь пострашней нажимать на того голубыми, почти бирюзового цвета глазами.
Тут уж весь офицерский народ всколыхнулся, загалдел, выпуская скопившийся гнев, – надломившись в лице, лейтенант от такого напора отпрянул, прижимаясь к своим автоматчикам, и орал перекошенным ртом, призывая к порядку ораву и уже понимая, что криком он ее не погасит.
Напустившиеся на него офицеры стали вдруг расступаться – протолкнулся к посту тонколицый, поджарый безулыбчивый старший в габардиновом сером плаще и с «пустой» головой: мера власти угадывалась по глазам, по тому, как идет человек, а потом уже по осенившей чернявую голову, ниоткуда возникшей малиново-синей фуражке.
– Документы товарищей. – Человек безопасности столь привычным движением взбросил не терпевшую и не прощавшую промедления руку, что огрызок из комендатуры, надломившись в лице, чуть не выронил продовольственные аттестаты и расчетные книжки. – Попрошу вас, товарищи летчики, следом за мной.
Неприступно-холодный чекист заключил их в единое целое – точно дратвой пришил к изначальной их троице замечательно-непроницаемого капитана и еще одного бугая, молчуна-лейтенанта с татарскою мордой. И пошли впятером вслед за серой габардиновой этой спиной.
– Извините, товарищ, не знаю, как к вам обратиться по званию… – не стерпел Лапидус.
– Леонид. – Человек резко встал, оказавшись Лапидусовым тезкой. – Вот перрон, вот вагон. Залезайте себе и катитесь. Я, ребята, как летчиков вижу, сразу делаю стойку. В свою бытность безусым щенком тоже было на небо замахивался. Не сбылась голубая мечта. А влечение осталось. И зависть. Может быть, и у этого лопуха тылового, рожденного ползать, тоже зависть, как думаете? Я так понял – в Москву? – Протянув документы Зворыгину, по старшинству, так и не разделил пятерых на две партии. – Кто же в вашем полку воевать остается?
– Да из разных мы, разных полков, – отвечал Лапидус. – Даже не из соседних дивизий, быть может. Вы вообще кто такие, ребята? Шпионы?
– А вы? Парашюты в ближайшем лесочке? – сказал ему в тон капитан.
– Мы свои парашюты в Баку за тушенку барыгам загнали. Ну, кто? Предъявите свои документы.
– Капитан Волковой, лейтенант Бекбулатов. Двадцать третий гвардейский истребительный, слышали? Эскадрилья «Монгольский арат». А такой – на монгольские тугрики эскадрилья построена. Ну а вы-то кто, вы?.. Да иди ты! Это имени, что ли, Зворыгина?
– Вот он, Гришка Зворыгин! Во плоти пред тобою – потрогай!
Друг на дружку набросились – про «спасителя» страннонечаянного своего и забыли. Обратились к нему, неудобство почуяв:
– Ну спасибо, товарищ… Леонид, за такое.
Тот какое-то дление их поразглядывал и достал из великих своих полномочий неожиданный новый подарок:
– Посажу-ка я вас, диверсантов, на литерный. А не то прямо здесь и состаритесь.
По хотению Емели, с быстротою волшебною начало исполняться дальнейшее все – и уже через десять минут уминались в купе, и уже выставлялось на стол все, чем были богаты, и уже появились бутылка армянского марочного коньяка с засургученным горлышком и набор шоколадных конфет из портфеля капитана особого ведомства, и уже содрогнулся в железных своих сочленениях поезд, и уже разбежалось по жилам золотое коньячное пламя, и пошли языками чесать вперебой.
– Я, если хочешь знать, без воздуха худею. Все земные роды просто молятся, чтобы нахмарило, ну а мы – как без ясного неба?
– …Нет уж, только не бомберы, я тебя умоляю! Уж чего не люблю, так в конвое ходить. Дело важное, но… никакой вот свободы для творчества. Появились «худые» – отогнал их чуток и обратно к большим. Так и ходишь на этой цепи: гав-гав-гав. Я охоту люблю! Ты над морем один не охотился? Помню, как первый раз дорвались, я жилет на себя надувной, ну а Гришка мне: брось его на хрен, лучше сразу на дно, как топор, чем в холодной воде телепаться. И вообще – такое, мол, как ты, оно не тонет.
– …На фоне леса их не видно. Глаза разули – вот они, под нами. Идут в три яруса, лаптежники гадючие. Я прямо с солнца на него свалился, зашел в три четверти, он мой, и ничего вокруг уже не вижу…
– Увлекаешься!
– …сам не сгорел – штаны на мне сгорели. Иду в хозчасть: так, мол, и так… А зампохоз: не вышел срок износа. Не положено вам, лейтенант, новых ватных штанов от зимы до зимы, походите пока в шароварах суконных. Сам – ряха во! Горит за родину! Ну я так без штанов на КП и пошел. У отцов-командиров шары на затылок: это что на вас, что?! А это, говорю, на мне кальсоны теплые.
– Его сразу, паскуду, узнаешь по полету.
– Да ссыкуны они, свободные охотники. Он никогда с тобой в маневренный не ввяжется, – рубанул захмелевший Алим.
Резануло Зворыгина: странно было ему услыхать от собрата подобную пошлость – то, что все пионеры давно уже знают, которые металлический лом собирают и сдают на завод в переплавку, вносят лепту в создание именных самолетов.
– Это ты сказанул, – посмотрел на Алима едва не с презрением. – А вот то, чего девки во всех деревнях уже знают. Под карусель сам «мессер» как машина заточен идеально, я считаю. Я не знаю, каких ты в своей жизни встречал, а вот с нами их «волки» такой хоровод заводили – разве что голова не откручивалась. Тот, кто силу свою сознает, безо всяких иллюзий причем, обольщения ложного – если он тебя в небе по почерку выделит, сам же первый тебе закрутиться предложит. И вязать будет волей своей, пока ты не взопреешь от крови.
И посмеркся Алим, онемел – придавил, получалось, Зворыгин его своей правдой, принизил: настоящих ты, брат, и не видел, а так, с сосунками барахтался. И ни слова ему поперек, за Григорием сразу признав правоту там, где каждый второй да и первый летун сразу кинется опровергать: «Это я-то не видел?! Да я!..» Значит, тоже себе цену знает: «говори, говори – как до дела дойдет, ты меня по полету узнаешь». И опять – вперебой: кто о бабах, кто о самолетах.
– Я с хорошею девушкой нынче бы даже в клуб постеснялся зайти. Раньше ей про сирень, про Есенина, про полеты на Северный полюс… Ага, и челюскинцев лично со льдины снимал, невзирая на то что учился тогда в пятом классе. А сейчас вот совсем одремучился.
– Это ты, брат, напрасно. Что стесняться теперь, когда сами они не стесняются? Когда ты – их последняя, может, надежда на минутное счастье?