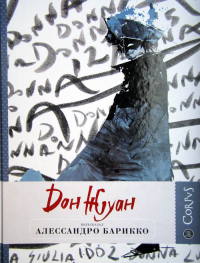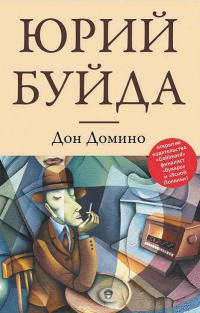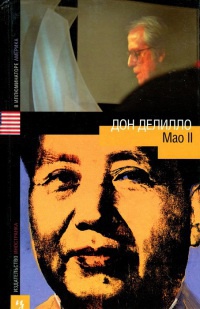– На такой высоте мне на «кобре» вообще делать нечего. Ниже тысячи метров – утюг утюгом.
– А вот честно, Григорий, – сколько ты фрицев в землю загнал?
– Да под сто, я тебя уверяю! Это он просто скромничает. Да и как подтвердить? Упадет фриц один – так на эту убитую тушу все сразу права заявляют. Это мы его сбили – зенитчики. А пехота: нет, мы. И выходит по их донесениям, что уже не один сбитый «мессер», а три. Вот и надо проверить семь раз, а потом уж поверить. Сам как будто не знаешь. А когда ты над морем его закоптишь? Или просто за линией фронта? Как его доказать? Взять того же Тюльпана. Со дна не достанешь. Вот мы двое и видели лично, как Гришка его. Ну, Поярков еще. Жалко, вас с нами не было! Да родиться на свет надо было только ради того, чтобы это увидеть!
– Ты меня, Леонид, извини, но вот только… – не губами, не ртом, а каким-то другим, дополнительным органом речи сказал капитан Волковой и какое-то время не мог говорить, но себя пересилил и в Леньку – в несомненную силу Зворыгина, как в червячную слизь сапоговой подковой, – вдавил: – Видел я только этого Борха. Не так чтоб давно.
Вмуровало обвалом породы в немоту всех троих, задохнулся Зворыгин в кромешной пустой черноте, разом хлынувшей в голову.
– Ты-и-и что это, а? Ты-и-и что это мелешь такое? – Лапидус еле выпихнул кляп из гортани и осипло кричал, задыхаясь неверием, высоко перешагивая бешенство и какую-то детскую жалобу. – Фук он, фук! Как тебя сейчас, видел! Я лично! Султан! Ну скажи ему ты! Со своим красным носом один он такой!
– Я тебе просто мамой клянусь! – перекинулось на Ахмет-хана от Леньки. – И никто его больше с тех пор на Кубани не видел! Или что, скажешь – не человек?! Дух, шайтан?! Это мы проходили уже! В это больше не верим! Если б он был живой, то давно бы уже появился! Там бы, там, на Кубани, воскрес! Показал бы себя: вот он я!
– Ну так он и воскрес, показал. Только там, где вас не было. Нам показал, – с неживой, мерзлой силой сказал Волковой.
– Это где же вы с ним повстречались, скажи! – наскочил на него Лапидус. – Что ты видел такое, кого?!
– «Мессершмитт» видел с красным цветком. – Волковой немигающе выдержал Ленькин вскрывающий взгляд. – Я не знаю, кто там в нем сидел, Борх – не Борх, человек, дьявол, дух… Может, это другая какая фашистская тварь так накрасилась, чтобы нас напугать, или, может быть, в память о дружке своем гадском… Может, чтобы тебе знак подать, – посмотрел на Зворыгина безо всякой издевки, – только тот, кто нам встретился, это… Я ничего не мог с ним сделать, ничего. – И, упершись глазами в зияющую пустоту, как будто силясь вытащить кого-то из своих оттуда и не нашарив ничего, договорил: – Он троих… наших… сжег.
Зворыгинская мысль поворачивалась, как исподний жернов.
– Расскажи, – попросил он Волкового угрюмо и просто. – Наших тоже он… много. Расскажи, как он вел карусель. И тогда я скажу тебе, он это был или нет. Я же трижды с ним близко общался, я его изучил лучше, чем свою бабу иной за полвека супружеской жизни.
– Говорю же: не видел такого ни разу. Акробат на батуте, а не самолет. Ты поверь, кое-что я умею, но с ним… Хорошо вот Алим – это он его из-под хвоста у меня выметал, а иначе бы я с тобой не разговаривал. – И умолк, навалившись всем весом на локти, как будто под нажимом чугунной плиты, в одиночку под нею устраиваясь жить и стыдясь, что живой; но Зворыгину было одного покаяния мало.
Без обмана в тот день он кого-то убил – человека, сидевшего в «мессере» с красным, полыхающим носом-тюльпаном, – и ничто в нем, Зворыгине, не трепыхнулось креститься, просто в мозг его снова ударил тот светлый, холодный, снисходительноцарственный взгляд. Точно солнечный ветер Зворыгина вырвал из него самого, и, подняв над землею, швырнул в голубую Цемесскую бухту, в тот далекий теперь уже день, когда он ощутил себя силой, способной сбросить с неба любого. Вызвав в памяти все эволюции той карусели, он как будто бы сам себя выхолостил, с неумолимой ясностью увидел, что не мог он, Зворыгин, так дешево, на убогой петле и догоне настоящего Борха убить. Да для этого Борх должен был на огромное время ослепнуть и оцепенеть. Да для этого все, все врожденное надо в нем заменить. «Мессершмитт» был его, с красным носом, но сам человек…
Объяснение, пришедшее сразу, проломило своей простотой: было так – с первым взревом пожарной тревоги побежали они по машинам, и кто-то другой безраздумно запрыгнул в чужой «именной» самолет – точно так же, как сам он, Зворыгин, с полотенцем на шее и мыльною пеной на морде, полуголый срывался и прыгал в любой подвернувшийся «Як» – отогнать от своих самолетов и кухонь ревучую стаю «лаптежников». И давил его стыд, что поверил ничтоже сумняшеся в близорукость и даже убожество Борха и до этой минуты любовался собою, дерьмо!
Ровно как из пробоины, из него захлестало и обрушилось на Волкового: а вот это ты видел? а это он тебе показал? а вот так из-под трассы твоей уходил?
И Володька, как будто проседая от этих вопросов, кивал, разжимая сведенные челюсти и выпуская из себя односложные «да», то, чего не хотел вспоминать и не может забыть… и сказал, между прочим, такое:
– Ну я дырку увидел вверху – и на солнце кабрированием. Только так от него оторвался.
И как раз в это самое дление вагон сотрясло, и, похоже, один лишь Зворыгин оглох не от этих железных ударов, а раньше – слова-валуны «только так от него оторвался», «кабрированием», покатавшись в башке, оглушили его, потому что могли означать лишь одно, то, чего быть не может: Волковой никогда не держался за ручку деревянного «ЛаГГа». Ну не мог командир эскадрильи «Монгольский арат», прокаленный в горниле летун, позабыть о своей же телесности, основных свойствах плоти, которой оброс, об ущербности в скороподъемности, в счет которой Тюльпан на глазах у Зворыгина Петьку убил… Уходить так нельзя, невозможно уйти… это как… все равно что взять скрипку на манер балалайки.
Кровь ударила молотом в голову, но Зворыгин не дрогнул и ждал, что сейчас Волковой шевельнется и руками покажет, как ушел от Тюльпана на горке восходящей неправильной бочкой, или просто признается, что не он от Тюльпана ушел, а Тюльпан его сам отпустил, отвлеченный другою добычей или просто с усталым презрением, и тогда этот морок развеется. Но Володька молчал. Он не видел вопроса в зворыгинских разоренных глазах – столь понятный и близкий по закваске ему капитан с неприступным кремневым лицом и прямым, сильным взглядом почти бирюзовых, ничего не боящихся и не скрывающих глаз, – и это было еще более невероятным и необъяснимым, чем само воскресение Борха. Почему же никто не орет «не бывает»? Неужели не слышал никто?
– Ну, давайте за то, чтобы кто-то из вас доканал эту гадину, – мрачно слушавший их капитан безопасности поднял манерку с остатками спирта, и Зворыгин услышал его точно из-под воды – ощущение недостоверности происходящего затопило его, а все пятеро уж затянули – не в лад, но одною душой:
– Машина в штопоре кружи-и-ится, ревет, летит земле на грудь – не плачь, родная, успокойся, меня навеки позабудь!..