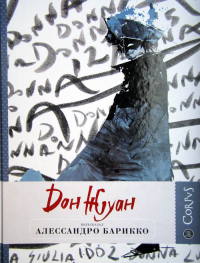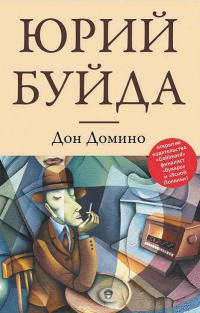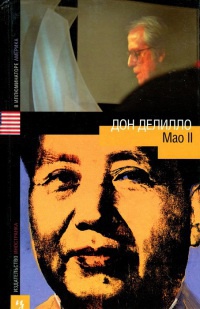– Значит, вот что, орлы, – объявил им помначальника аэродрома, разрывавшийся натрое меж зуммерившими на столе телефонами. – Посадить на московский почтовый могу через сутки, да и то без гарантии. По прогнозу гроза собирается.
– Это как без гарантии? Ты смотри предписание! Сам главком авиации лично затребовал нас. Быть в Москве не позднее двадцатого! – налетел на него Лапидус.
– Да куда я тебе посажу, милый мой?! С фронтовой спецпочтой?! У меня командармы, все – в Ставку! – Не осмелился даже взглянуть, показать им глазами на кремлевское небо. – А ты мне тут про штаб ВВС. Понимаю, ребята, но физически вам не способен помочь. Ждите сутки. И вот что: есть еще вариант – по железке.
– Да ты что, издеваешься?!
– Да помочь вам хочу. В четырех километрах, за лесом вон, станция. Поезда – как часы, уверяю. Вы как будто забыли, что можно не только летать. Если сядешь на литерный, те же сутки – и все, ты в Москве. С вашим-то предписанием.
– Мы тебе вон его показали, свое предписание, – буркнул Зворыгин, но, поглядев на Лапидуса с Ахмет-ханом, нажимавших глазами: «пошли», повернулся на выход, к железке.
– Ишь ты, хочет помочь, – головой мотнул за спину на ходу Ахмет-хан. – А сам глаза отводит – прямо как окосел от вранья. Сильно нервный какой-то. Я как чувствовал – верите, нет? Что-то будет не так.
– Да чего же не так-то? – потянулся до хруста в костях Лапидус. – Так еще даже лучше, чем в глухом-то корыте, как Иона во чреве кита. На родные поля поглядим, на народ. Красота-то какая вокруг. Надо было вот только прибористов тряхнуть, чтоб сцедили нам граммов пятьсот на протирку всех внутренностей.
– Эх, на «коброчках» наших и махнуть до Москвы бы, только баки подвесить, – помечтал Ахмет-хан.
– Нет, кунак, «кобры» наши не тронь. На них люди хорошие вместо нас воевать остаются.
– Ну а если не сядем на литерный?
– Может, так и врубить – за Героями едем? Неудобно вот как-то, не интеллигентно – кулаком себя в грудь. Все старались, а мы отличились…
Широкая грудь каждого из них была страшна, а грудь Зворыгина – воистину ужасна, золотая и рудая от орденов, как бы блекнущих под Золотою Звездою и орденом Ленина. Уж не грудь, а какой-то проходческий щит. Ахмет-хан с Лапидусом в Кубанском побоище перевыполнили чуть не вдвое «геройскую норму». Воевали и знали: никаких воздаяний не надо, воздаяние – немцам от них, но теперь призвала их, признала своими абсолютная сила, окончательная справедливость всех советских людей. И Зворыгин – хотя это с ним уже было, раз уже вырастал и стальнел, выходя из рядов и выслушивая: «Участвуя в ожесточенных воздушных боях, проявил себя отличным летчиком-истребителем, у которого отвага сочетается с большим мастерством… Достоин присвоения звания „Герой Советского Союза“», – ощутил то же самое строгое торжество и звенящую стужу.
Вспоминали проказы свои, за которые только гауптвахтой отделались. Про ликер «Глизантин» – еженощными штурмами изводил Лапидус прибористов: поделитесь, ребята, сами знаете чем, спирт же надо расходовать так, чтобы не было после мучительно больно за бесцельно пролитую жидкость. Те ему: а иди ты. И Ленька пошел – побежал по пахучему следу на склад ГСМ: это чем у вас так вкусно пахнет? Притащили с Гречихиным в эскадрилью канистру гидравлической жидкости для заливки в железные ноги шасси. Сепаратор был сделан из противогазной коробки: ядовитую смесь перегнали три раза, до детской слезы, но и эта живая вода нестерпимо разила духом сильных веществ, с человечьим нутром несовместных. Лапидус ломанул в автолавку, закупил в ней полсотни бутылок вишневого, на сахарине, сиропа, и свершил на глазах у братвы вожделенное таинство.
Вспоминали Тюльпана – как Зворыгин убил. И как раз после этого – смерти одного, но какого убийцы – на Кубани как будто поменялся сам воздух; рассыпаться от их истребительной музыки стали самолетные стаи тевтонов, поскорей давать ходу из зачумленного воздушного пространства, перенасыщенного русской силой. Весть о смерти хозяина неба пронизала единый радийный эфир, говоря истребителю каждому: мы теперь стали выше, не везде, не всегда, но уже стали брать превышение над ними. Все собратья и раньше смотрели на Григория как-то особо, а теперь – словно что-то от Борха к нему перешло, словно он у него что-то выклевал, подобно тому как дикари Океании поедали глаза, мозг и сердце своих самых сильных врагов.
Поредел уж подлесок – стало слышно певучие скрипы поездных механизмов на станции, те железные звуки, которые беспреградно разносятся в пристанционном особенном воздухе, обещающем невероятную встречу, которая тотчас, без жалости, обернется разлукой. И Зворыгин подумал о Нике – может быть, и за нею он едет в Москву.
На путях – эшелоны, платформы, вереницы телячьих вагонов, паровозное пыханье, лошадиное ржание, переливы трехрядных гармошек.
– Круг дайте, круг! – Закопченные, потные артиллеристы – молодой, круглолицый, лопоухий сержантик и кряжистый пожилой старшина – заходили вприсядку, состязаясь в неистовстве неуловимых коленец.
Из открытых теплушек разило лошадиным ядреным навозом и потом. Терлись плечи, погоны, мешки; солдаты всех родов теснились меж вагонов, гомонили, толкались и бегали за водою и кашей с канистрами, котелками и чайниками. Составы, составы, составы… По железным дорогам, по всем своим жилам толкала Россия на запад мужицкую кровь… Эй, браток, где же литерный тут, на Москву? Показали на здание вокзала. Испещренный щербинами и залатанный наспех фанерой вокзальчик беспрерывно глотал и процеживал жизнь. Забежали в него, продавились на воздух, а там, на перроне – загородка дощатая с узким проходом, комендантский патруль, и к нему уже очередь сороконожкой ползет.
– Та-а-акс, товарищи офицеры, попрошу предъявить документы, – козырнул им старлей с истомленным, но сытым лицом. Неприязненно как-то царапнул глазами по высоким наградам Григория и с такою почтительной осторожностью взял двумя пальцами синеватую книжицу, словно остерегался обжечься. С показным напряженным вниманием вчитывался, пошевеливая спелыми губками, отрывая от строчек глаза и с глумливою кротостью взглядывая на Зворыгина. Никуда не спешил, откровенно мытаря всю троицу. – Та-а-ак. А чего ж, это самое, тут-то, на станции, делаете? Вы ж крылатые люди. Вы должны сейчас плыть в стратосфере. Непонятно, товарищи. А какие еще документы имеются?
– Предписание об обучении грамоте.
– Юмор? Это мы ценим. С неба, с неба свалились на станцию. Да я все понимаю: бывает. Только надо сперва прояснить. – Упивался, вахтерская морда, своею этапнозаградительной властью, удовольствие было ему завладеть и заведовать временем жизни людей, что всем видом своим принижают его до нуля. – А вот знаете что, это самое, попрошу предъявить для осмотра вещевые мешки.
– Э! Ты что это, разумом двинулся? Это с какого?! – полыхнул Ахмет-хан.
– А с такого! Большого! – сорвался старлей, напоказ свирепея и праведногневно выедая Султана глазами. – Это ты тут какого на станции делаешь, ты?! Может, ты – офицер Красной армии, орденоносец, а может, фланируешь тут, парашют прикопал вон в ближайшем лесочке! Ты глазами меня не стриги – задымишься сейчас с перегреву! Выполняй, тебе сказано, требование! А не то я сейчас как имеющий право… – цапанул кобуру на боку… и, обмякнув лицом перед глыбой, продолжил с усталою мукой: – Вы ж советские люди, должны понимать. Я ж прошу по-хорошему… – и взглянул на Зворыгина с нетаимой издевкой.