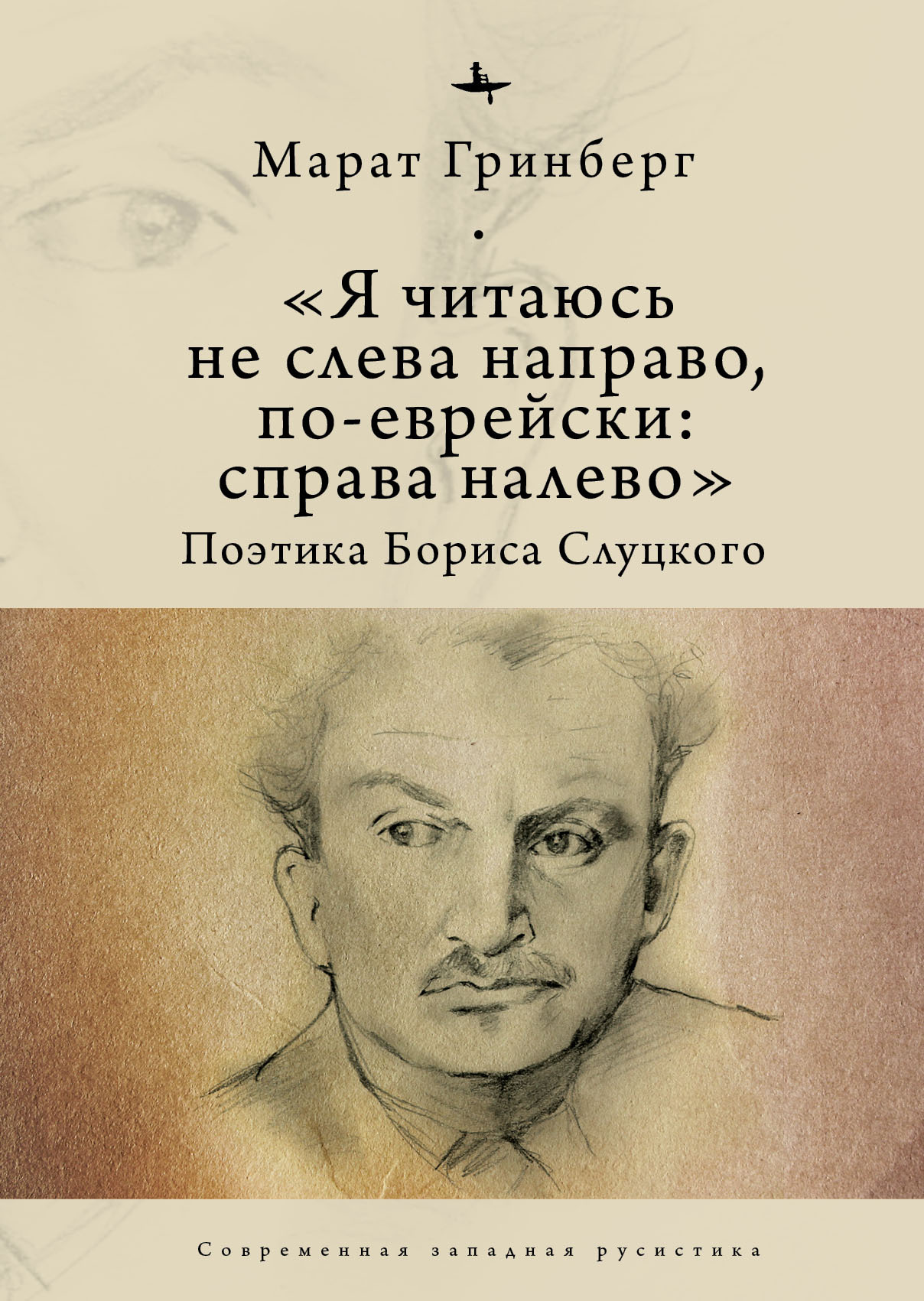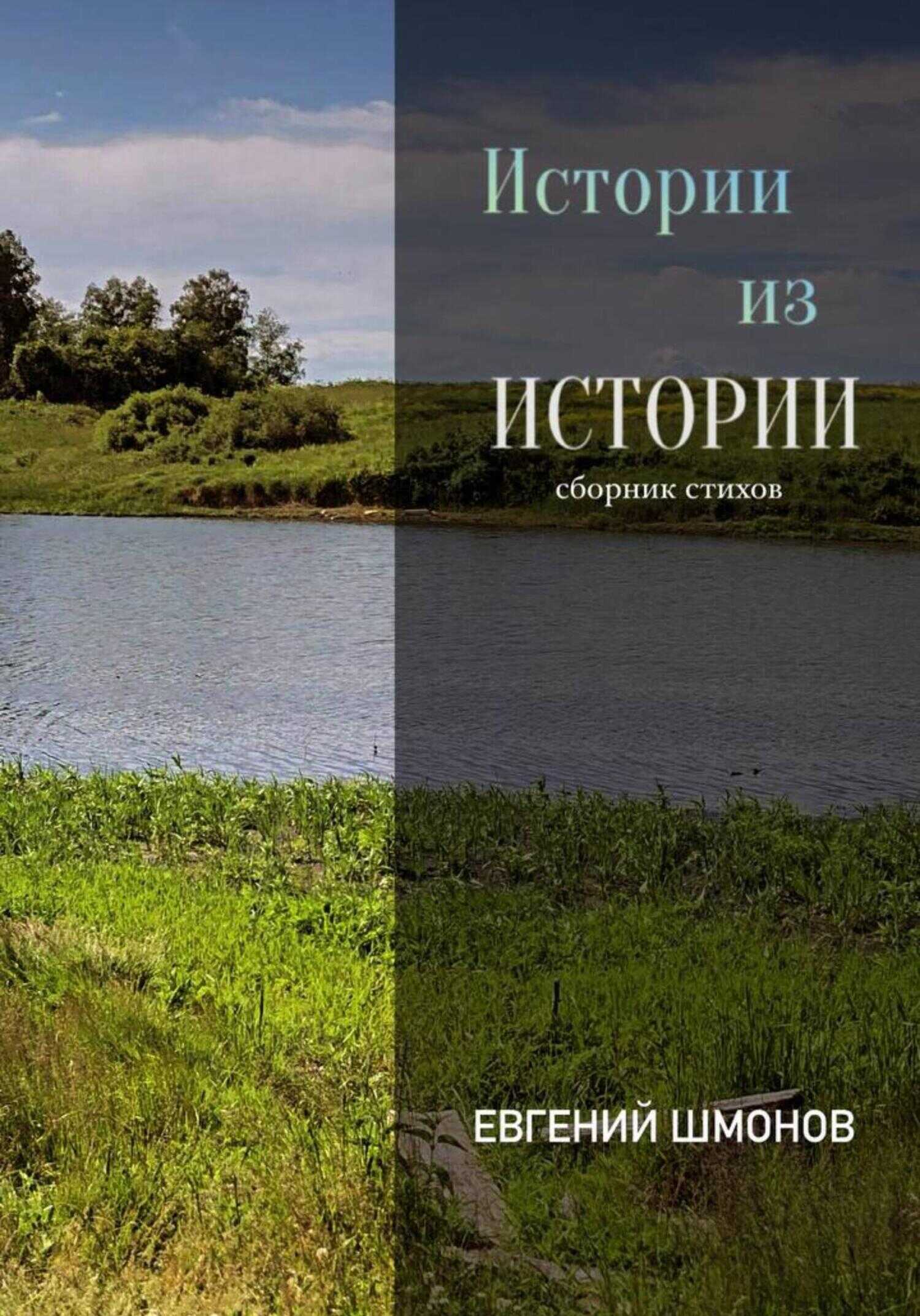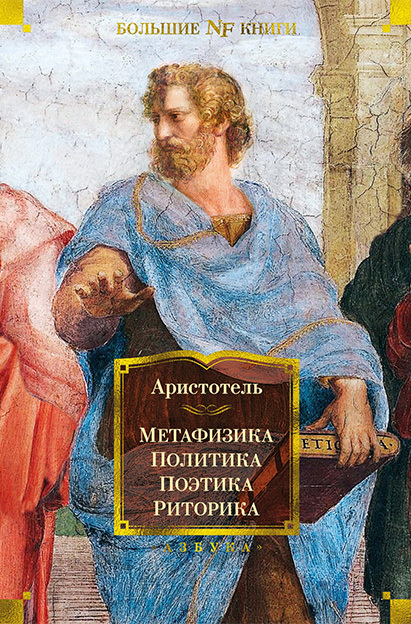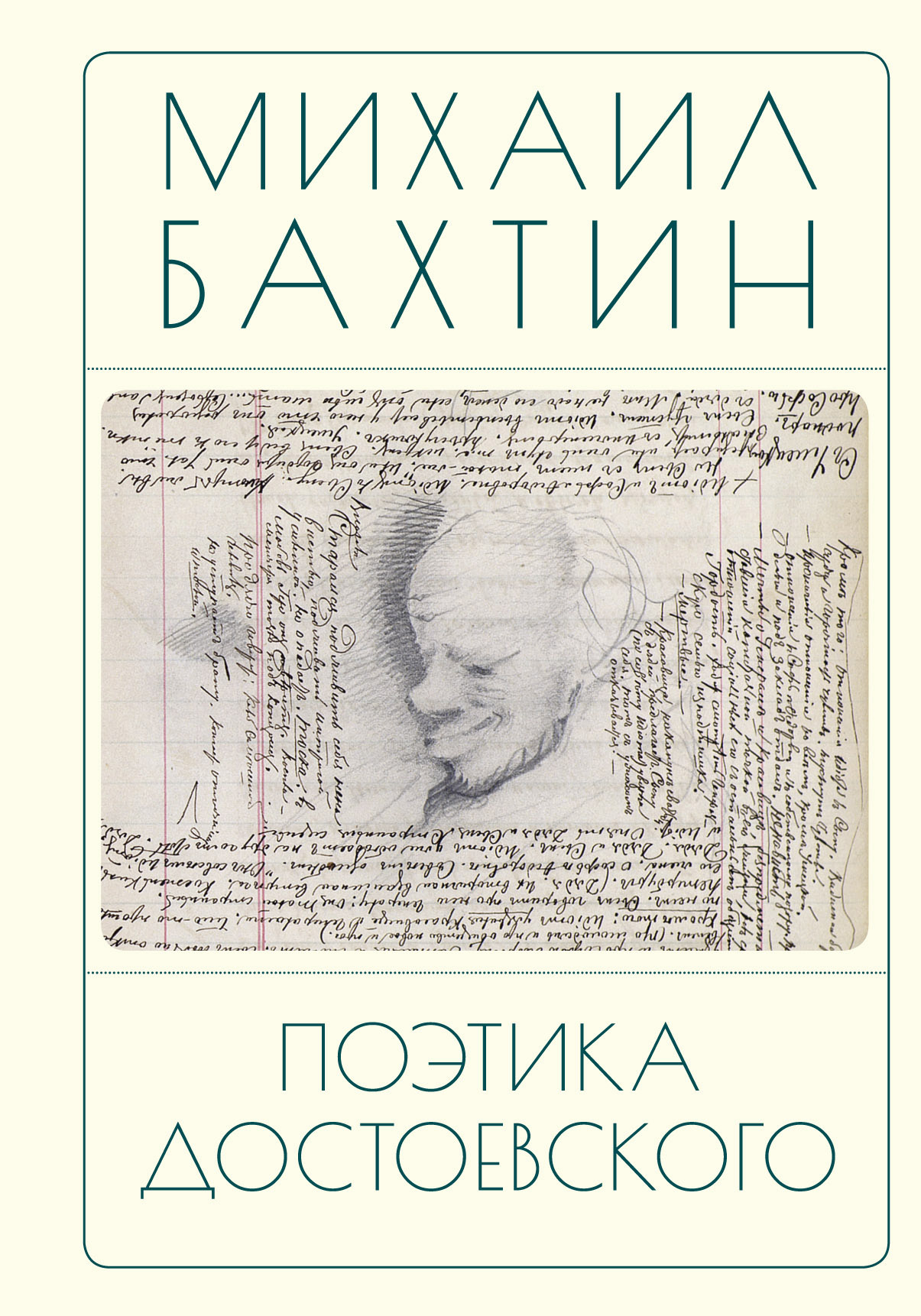он всегда мог рассчитывать[477]. На «закрытых показах», организуемых по воскресеньям для избранных гостей «Школы», длинноволосый Щукин играет на гитаре, Самойлов щеголяет в обтягивающих чулках, а сам Харитонов читает свои стихотворения[478]. Общая таинственность «показов» соединяется с ярко выраженной эстетической «несоветскостью» режиссерских поисков Харитонова —
Сказать, что в брежневской Москве харитоновские представления выглядели странно, значит, не сказать ничего. Его лицедейство считали вызывающе несвоевременным с идеологической точки зрения. При этом в нем не было ни советской драматургии, ни политической оппозиционности (в духе Любимова или Захарова). Ни диссидент, ни партиец, но явно не советский человек. А написанные им пьесы не имели связи ни с революционной патетикой Брехта, ни с «заедающим бытом» в духе Островского ли, Чехова ли, Хармса… Ни Богу свечка, ни черту кочерга![479] —
и это почти неизбежно порождает атмосферу легкой фронды, окутывающую харитоновскую «Школу»: «Когда мы пришли смотреть его [Харитонова] спектакль в Дом Культуры, там над сценой была растяжка, лозунг: „Да здравствует 58-ая годовщина Великой октябрьской революции“. Все начали говорить: „58-ая статья“. 58-я статья, за которую сажали»[480].
Очевидно, театральные представления Харитонова плохо укладываются в курс на развитие «социалистического образа жизни», провозглашенный на XXV съезде КПСС в феврале 1976 года. За соблюдение этого курса отвечают не только идеологические работники КПСС, но и (во все большей степени) представители силовых ведомств. После двух инсультов, перенесенных Брежневым в 1974-м и 1976-м, во внутренней политике страны значительно возрастает роль председателя КГБ Юрия Андропова. С 1967 года Андропов планомерно переориентирует КГБ на борьбу с «идеологическими диверсиями», благотворной средой для вызревания которых считается «творческая интеллигенция». Главная ставка сделана на «профилактику»: неблагонадежных интеллектуалов теперь не арестовывают (как при Сталине) и не клеймят в газетах (как при Хрущеве) – с ними ведут «беседы», вежливо «предупреждая» и «предостерегая» от «ошибочных шагов». Наследуя идеям Александра Шелепина об использовании ВЛКСМ для превентивного обнаружения «идеологических противников» советской власти, андроповская «профилактика» является реакцией на вполне конкретный вызов: новый подъем диссидентского движения, инспирированный выходом на Западе «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына в 1974 году, подписанием Хельсинкских соглашений 1 августа 1975 года (глава VII Соглашений посвящена защите прав человека) и присуждением Нобелевской премии мира академику Андрею Сахарову 9 октября 1975 года.
Именно в середине 70-х гг. резко возросла так называемая предупредительно-профилактическая деятельность КГБ. <…> профилактирование становилось способом прямого, санкционированного властью вмешательства в жизнь людей, мысли и действия которых не подпадали под осуждение советским законодательством, но потенциально считались опасными для власти. <… > число «профилактированных» многократно превосходило (примерно в 20 раз) количество привлеченных к уголовной ответственности. <…> на десяток пойманных шпионов приходилось три-четыре сотни обвиненных в антисоветской деятельности и около 60 тыс. «профилактированных», —
указывает Рудольф Пихоя[481]. В этих условиях неординарная фигура Харитонова – даже несмотря на его видимую политическую лояльность – рано или поздно должна была привлечь внимание властей. Сначала в отделение КГБ будет вызван Олег Киселев, которого попросят приватно рассказать о Харитонове: как у него дела? с кем он общается? нет ли в его библиотеке книг Солженицына, номеров журнала «Континент» или, например, пьесы «Елизавета Бам» Даниила Хармса? Киселев, однако, уже имеет довольно богатый опыт посещения подобных учреждений (с ним вели беседы по поводу его «подпольных» фильмов и контактов с иностранными гражданами) и ничего о Харитонове не рассказывает[482].
В результате летом 1976 года сотрудник КГБ приходит непосредственно на занятия харитоновской Школы в ДК «Москворечье»: «Он меня отозвал с занятия показал удостоверение мы бы хотели с вами побеседовать но я вижу у вас занятие когда вам удобно? я сказал я здесь буду только в воскресенье а до среды у вас дело терпит? жизнь это гнет и заботы безвыходный мой выходной вам удобно в среду? – ну было бы вам удобно» (175) «Одно время к Жене приставало КГБ. Что-то у него спрашивали, выясняли, проверяли, не враг ли он народа, с кем знаком, с кем дружит, помучили изрядно»[483]. Интерес со стороны КГБ в любом случае неприятен, однако Харитонов более-менее спокоен; он предупрежден Киселевым, он в самом деле не занимается «политикой» и, вероятно, в принципе не допускает мысли о том, что к нему могут быть применены какие-либо санкции: «Харитонов вообще ко всем людям относился удивительно хорошо. Даже ругался на них ужасно смешно. Не мог до конца поверить, что есть плохие навсегда. Помню, надеялся на исправление какого-то гэбэшника за то, что тот опускал глаза при допросе», – пишет Нина Садур (2:148–149). И чем дальше, тем больше общение Харитонова с КГБ напоминает литературное произведение, обрастающее множеством странных деталей: Харитонов каркает грачом после «профилактических бесед»[484], умудряется влюбиться в ведущего «беседы» сотрудника органов («Проницательные чекисты дали в следователи молоденького паренька. „Женя ходил как на свидания“»[485]), а в ответ на ламентации семьи Гулыг, которых он назвал следователю в числе своих друзей («Ты продал нас за тридцать серебряников!»), демонстративно звенит мелочью: «Это тридцать серебряников звенят. Теперь это будут наши позывные»[486]. Не менее фантастична и развязка истории: Харитонов сочиняет заявление с хитроумной самозамыкающейся логической структурой – текст, которым он будет очень гордиться и из которого следует совершенно неизбежный отказ автора от дальнейших контактов с КГБ[487]. «А потом [Харитонов] написал какую-то сверхумную бумагу, я в ней ни черта не поняла, и подал ее следователю. – Это Вы сами написали или Вам помог кто? – удивился следователь и с тех пор оставил Женю в покое навсегда», – вспоминает Елена Гулыга[488]. Вероятно, фрагменты именно этой «сверхумной бумаги» включены Харитоновым в состав одного из поздних произведений: «Я не привлечен следственными органами свидетелем или ответчиком по какому-либо делу; я считаю себя вправе отказаться от дальнейших вызовов на простое собеседование. <…> И я не могу подписать обязательства о неразглашении вызова меня на беседы. Если я соглашусь его подписать я сам себя поставлю под статью. Как только я расскажу кому-нибудь о них я стану виновным. До сих пор за мной не было вины и я сам возьму ее на себя как только напишу бумагу о неразглашении. Я не знаю закона чтобы принуждал ее написать» (175) История, совершенно немыслимая в СССР ни в 1950-е, ни в 1960-е годы – человеку удается отбиться от КГБ с помощью одного ловко составленного текста. И потому Харитонов совсем не напуган; кажется, он воспринимает события лета 1976 года как некую интеллектуальную игру, в которой ему