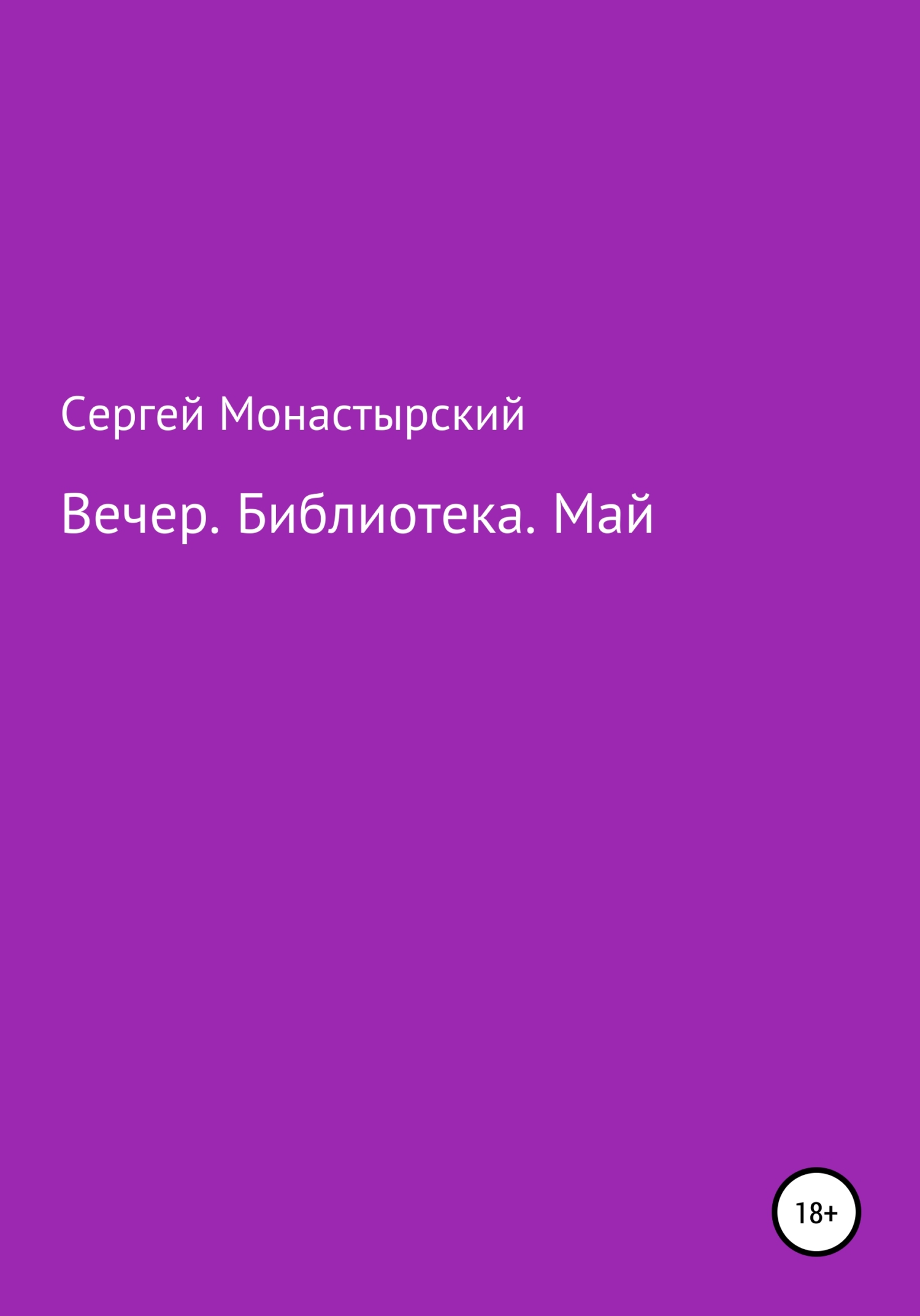и отдаленней сверкали молнии. Опять налетел стихший было ветер, зашумели, сгибаясь, вершины деревьев. А люди все ждут, все еще не расходятся.
— Смотри, папа, звезды показались, — говорит девочка. Рука отца гладит ее голову.
— Что ж сделаешь, дочка, ничего и не сделаешь…
Лихобаба рукавом вытер след капли с козырька фуражки, покорно надел фуражку на голову.
— Местность наша степная, голая. В другом краю тучка за лесок зацепится, а у нас ее мимо несет.
Рассвет. В пыльной мгле встало тусклое красное солнце. Жарко. Пискнула какая-то птица, и та затихла. Овцы сгрудились голова к голове, перестали есть. Коровы, как от пожара, забрели в ручей, пересохший наполовину, легли в грязь. Это идет суховей.
Резкий звонок в квартире Торопова. Торопов приболел: сердце сдавать стало. В домашней обстановке он выглядел вовсе пожилым и тихим.
— Слушаю… Да, слушаю, Геннадий Павлович… Дует. С утра… Так кто ж мог… Слушаю…
И долго слушает, постепенно все более тускнея. Потом печальным взглядом окидывает стол, который жена как раз накрывает к обеду, к воскресному обеду.
Торопов вешает трубку.
— А у меня окрошка со льдом, — в растерянности говорит ему жена. — И куда ж ты поедешь по такому пеклу? Ночью врач был, а теперь едет. Ты хоть объяснил бы, что сердце у тебя…
— Эх, Маша; разве это объясняют? Хороший урожай — и ты хорош, и ты прав. Плохой урожай — значит, и секретарь; райкома плох. И все прошлые грехи за одним разом припомнят. Тут уж про сердце молчи. Знаешь, как скажут? Мало того, что у него урожай плох, у него еще здоровье, оказывается, никудышное. Он небось из кабинета не вылезает. Вот как скажут. Надо ехать меры принимать.
— Да какие меры ты примешь? Суховей, что ли, заслонишь собой?
— Там какие-никакие, а какие-нибудь принимать надо. Дай, что ли, холодненького на дорогу.
Садится к столу, пробует пару ложек.
— Вот ведь взялось! Вздохнуть нельзя. Вот так вот вздохнешь и как будто на гвоздь натыкаешься. А может, это ничего? Просто я не болел никогда, не привык. Наверное, ничего.
Во дворе райкома партии у раскрытых ворот гаража шофер возится с машиной. Множество масленых деталей и инструментов разложено на брезенте здесь же.
— Давай, Никита Васильевич, запрягай быстрей, — говорит Торопов входя. — Едем сейчас.
— Все давай да давай. Дали б вы мне денек хоть мелкий ремонт произвести. Это ведь не человек — машина, ей другой раз остановка требуется. Как раз с эмтээсовскими слесарями договорился.
— Нельзя, нельзя, потом как-нибудь.
— Ну, нельзя так нельзя. А только сядем в дороге — я вас предупреждал.
Едут. Настойчиво дует суховей. Даже с опущенными стеклами в машине дышать нечем. Обгоняют две телеги. Женщины-подводчицы лежат в них лицом вниз. Туфли на ногах стоптаны и пыльны, загорелые икры блестят.
У развилки шофер спрашивает:
— В «Красный маяк» поедем или в «Зарю»?
— Езжай в «Маяк», — говорит Торопов. По сути дела, ехать все равно куда, ничего этим не изменишь.
Едут. На подъеме мотор начинает глохнуть. Заглох.
— Ну вот. Я предупреждал, Иван Иванович.
Но Торопов только вяло вылезает из машины. Подойдя к придорожному деревцу, срывает несколько листьев, растирает в ладонях.
— Лист в ладонях крошится, — говорит он больше сам себе и долгим, печальным взглядом оглядывает степь. Со многим прощается он в этот момент.
Качаются колосья, сморщенные, усохшие, — погибший урожай. То один, то другой колос Торопов берет на ладонь, отпускает.
— Пойду, пожалуй, — говорит он.
Шофер немного даже напуган таким его кротким, странным поведением.
— Попутной подождите, — советует он неуверенно.
— Пойду, — решает Торопов.
И долго видно, как он удаляется. Огромная степь, огромное небо и маленький удаляющийся человек на пыльной дороге. Что он может предотвратить?
Шофер с тревогой смотрит ему вслед.
Григорьев стоит у края дороги. В тучах жаркой пыли гонят по дороге блеющих овец. Заготовитель с кожаной сумкой на боку, с мокрым, красным лицом озабоченно оглядывает отару. Последним идет Ефимов. Он мрачен, зол.
— Куда овец гоните? — спрашивает Григорьев у Ефимова.
Тот махнул рукой, прошел, не ответив. Издали уже крикнул зло:
— На мясо.
Несколько черных ворон с карканьем кругами плавают над отарой выше пыли, словно чуя поживу.
Отара прошла. Пыль стоит над дорогой. По следу овец, высунув мокрый язык, тащится старая облезлая овчарка.
Посреди поля пшеницы стоит сосна, бросая на землю негустую и неширокую тень. В этой тени, опершись спиной о ствол, обмахивая бледное лицо фуражкой, сидит Торопов. Рубашка на его лопатках мокрая, крупный пот на висках. И весь он, как выжатый.
Григорьев со спины не сразу узнал его. А узнав, хотел было пройти мимо. Но вгляделся и понял: болен Торопов. Какие счеты с больным человеком?
— Чуть было совсем мотор не отказал, — говорит Торопов, виновато улыбаясь. — Да вот вроде отпустило немного.
Григорьев молча сел рядом.
— Знаешь, бывает такая везучая лошадь. Все тянет, тянет, сколько ни нагрузи — свезет. И понукать не надо. А потом упадет вдруг и хоть стегай, хоть не стегай, — отвозилась. Вот и я отвозил свое, видно.
Они сидят рядом, смотрят в степь. За хлебами, как дым, стоит пыль над дорогой, невидимой отсюда. Разговор вяжется нелегко.
— А я завидую тебе, Федор Иванович, — говорит вдруг Торопов. — Вот ты и снят, и разжалован, так сказать, а чувствую, победишь ты. Победишь, уж я чувствую.
Григорьев молчит. Спорить с больным Тороповым, волновать его он не хочет, но и говорить по душам, как они прежде говорили между собой, не может еще.
— Молчишь ты… Я тут думал, итоги, так сказать, подводил. Из тех, что со мной прежде на одних должностях работали, есть теперь такие — рукой не достать. А я на каждой ступеньке не то что отсидеться — отоспаться успевал. Хорошо идут дела — обо мне забудут, плохо — и вот начинают стегать телефонные звонки. И мчишься. В грязь, в дождь, в самую ростепель. Пока туда едешь, пока обратно, да ждешь, что тебе будет, сердце то так, то так… Вот на этих дорогах я растерял свою смелость. Сейчас назначили секретарем райкома, а я уж не рад. Все же тебе легче тогда было держаться. Тебя сняли с секретарей — ты агрономом пошел работать. Этого-то от тебя не отнимешь. А какая у меня профессия? Куда я пойду? И детей трое.
— Когда нам страшно, мы всегда думаем, что другим легче, — нехотя сказал Григорьев, — Другим и помирать легче. Ну, да не твоя вина самая главная. Прости, не вовремя говорю: болен ты сейчас. Но я вот шел —