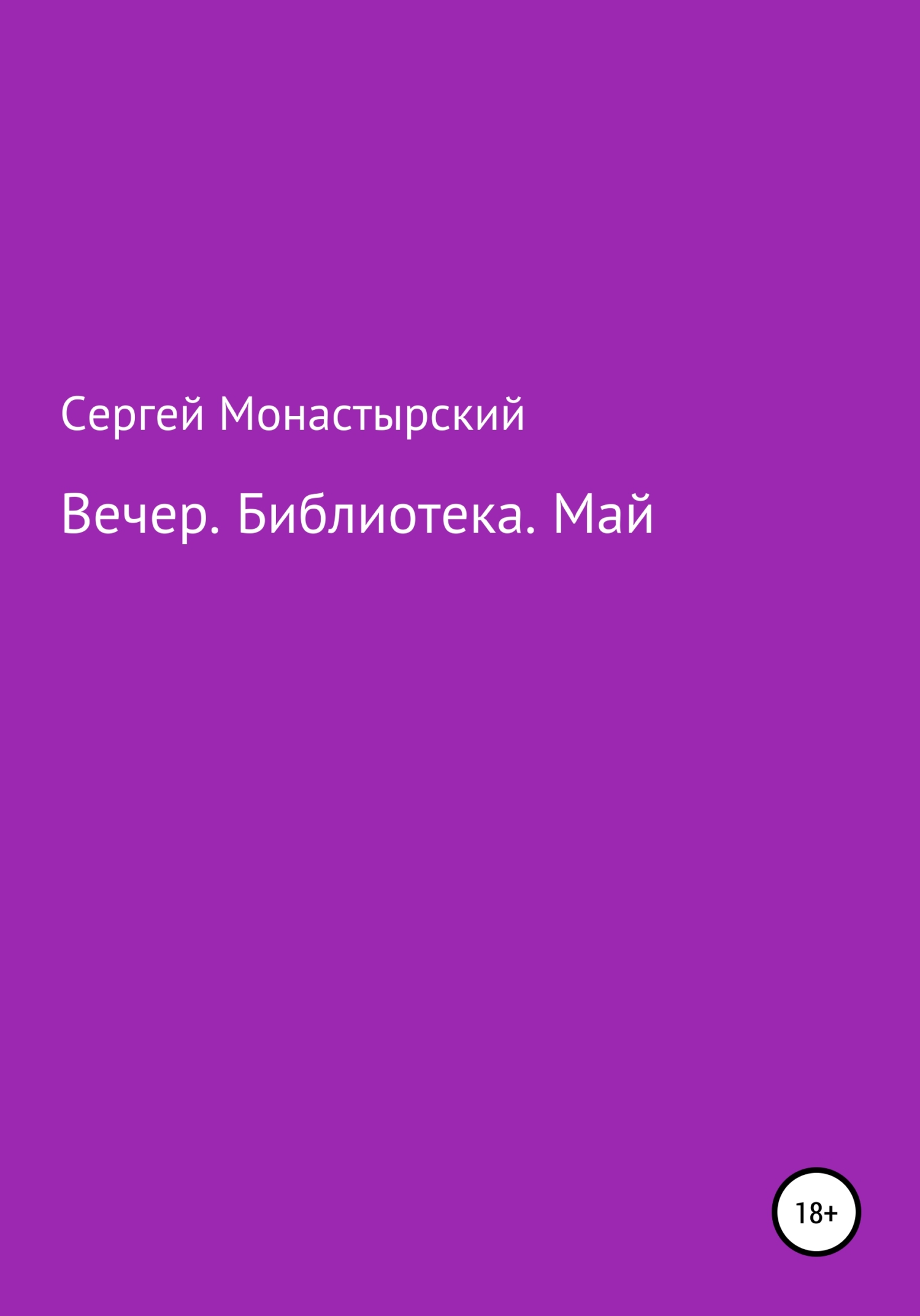район, на большой карте не обозначен, а все же сколько-то тысяч народу живет здесь. И на войну эти люди ходили, и стройки строили, и на земле работают — вроде бы и нас спросить не грех, когда общий-то план составляется. Ведь сколько-нибудь каждый из нас пожил на свете, чего-нибудь да знает. А то я гляжу — весна вроде бы началась, а морозы держатся.
— Весны без заморозков не бывает, и тебе это, Макар Анисимович, известно, — говорит Григорьев. — Но как они, заморозки, ни сильны другой раз, время за март перевалило, не к зиме дело идет — к весне.
Жаркий летний день. Жаворонок в синей вышине. Хлеба уже начали наливать колос.
Раздвигая колосья, выходят на дорогу Григорьев и Лихобаба. У Лихобабы лицо и шея блестят от пота.
— Теперь бы один дождь под налив, — говорит Лихобаба. — Прошлый год тоже вот так молоком наливался колос. — Он надавил в пальцах зеленое зернышко — выдавилась капля молока. — Суховей подул — все посъежилось, на глазах сгорело.
Лихобаба обтер пальцы.
— Если опять суховей, кто мы тогда?
Идут молча, попирая пыльными сапогами сухую землю.
— Ты знаешь, Макар Анисимович, я тут родился, — говорит Григорьев. — Полжизни здесь прожил. И воевал за эту землю, и сколько вложил труда — все в нее же. И старики мои в этой земле похоронены. А сейчас жду неурожая.
— Что ты, Федор Иванович, об этом подумать страшно!
— Страшно. Другой раз поймаю себя на этой мысли, и сам пугаюсь. А если урожай будет? Тогда, значит, и остальные полстепи распахать? Скрытые резервы… Понимаешь, чем тогда для нас суховей обернется?
— Это ты правильно говоришь, — со страхом глядя на него, соглашается Лихобаба. — А только не дай бог нам суховея. И скажи ж ты, какая жарища… С утра лежит вон то облачко за краем степи, а дальше не высовывается. Я давно за ним слежу. Если оно зашевелится — жди к ночи грозы.
Ночь. Облитое лунным светом, спит село. Белые стены саманных домов, резкие тени на земле.
…В степи, где дремлют овцы, тоже месячно и тоже тишина. Вблизи отары стоит засохшее, с короткими ветвями, черное против света, дерево. Но вот тень облака поползла по земле, накрыла отару, накрыла дерево.
…И в селе тень облака, гася лунный свет, движется по улице. Потемнело. Все затихло в ожидании.
Первыми почувствовали приближающуюся грозу вершины деревьев. Они вдруг зашумели, закачались, отрясая листья. Сухо блеснула молния, помедлив, ударил гром. И, словно от удара грома, распахнулись обе створки окна в крайней хате, высунулась заспанная голова, глянула на небо. Окно снова захлопнулось, на крыльцо, подтягивая штаны, сонно зевая, вышел хозяин. От следующей молнии осветились на столбах белые изоляторы.
— Ох-ох! Ведь это что делается! Пойтить козу привязать, — за спиной хозяина заговорила жена. — Она не так этого грома, как молоньи боится.
Григорьев проснулся от удара грома. И сейчас же порыв ветра подхватил занавеску, протащил ее по окну, по письменному столу, тому самому письменному столу Василия Ивановича, скинул графин с водой. Во дворе тявкнул и жалобно, как перед бедой, заскулил щенок. Ему ответила в другом дворе собака. Опять молния, опять удар грома. Григорьев поспешно одевается, пыхая папироской. Шура подбирает осколки графина с полу. Остановилась с осколком в руке.
— Федя, там овцы в степи. Они грозы боятся.
— Ну что ты, куда тебе в степь! Ты же ведь чем рискуешь! Нельзя тебе…
А в степи в это время молния вонзилась в сухое дерево, и оно вспыхнуло, осветив шарахнувшихся овец. Ефимов и еще двое чабанов пытаются сбить отару. С лаем носятся овчарки.
Село уже не спит. Во всех дворах народ. Вспыхивают угольки папирос.
Голос:
— Эй, курцы! Поосторожней бы надо. Сухое все кругом, вмиг ветром подхватит. Или пожара захотелось?
Мужчины негромко разговаривают, собравшись группами. Больше всех группа у дома председателя, Лихобабы.
Голоса:
— Гремит здорово, а будет ли дождь?
— Все небо обложило. Звезд не видать.
— Да, ветер силен. Гляди, опять, как в прошлом году, пронесет мимо.
Подходит взволнованная Шура:
— Макар Анисимович, надо бы конных послать. Овцы в степи. Очень уж полыхает сильно.
Лихобаба, как всегда в трудные минуты рассудительный и несуетливый, говорит своим тихим голосом:
— Митрий, и вот ты тоже, Орефьев, и ты, что ли, Егор, скажите на конюшне, мол, я велел коней взять, да скачите к Ефимову. Как, мол, там у него и что.
И вскоре трое конных проскакали по улице.
На другом конце села, у крайней хаты, та самая хозяйка, что ходила привязывать козу, шепчет:
— Господи, и прошлый-то год и позапрошлый все над Покровским дожди. Уж этот-то год не пронеси, господи, пролей над нами.
И тянется щепотью перекрестить лоб. Хозяин лениво обернулся.
— Комары, Петрович, комары. Уж так жгут. Должно, перед дождем взлетались.
— Чего ж меня-то не жгут?
— А ты куришь. Они табачного дыму боятся.
— Вот и ты кури, авось мозги прочистит.
Стегают молнии, и при их белом свете видны сухо блестящие глаза людей. Люди ждут дождь молча. Женщина на руках качает уснувшего ребенка. Девочка стоит впереди отца, затылком прижавшись к его животу. И он положил на ее голову большую жесткую крестьянскую руку, положил сурово и ласково. И девочка смотрит на вспыхивающие молнии с тем же, что и у взрослых людей, выражением. Много лет пройдет, и многое забудется, но то, как отец, и люди кругом, и она сама ждали дождя ночью, девочка будет помнить.
У председательского дома тихий голос Лихобабы:
— Сколько труда, ведь это сколько труда вложено. Неужели все зря?
Григорьев на своем крыльце говорит Шуре:
— Одни люди жизнь на земле устраивают, другие свою устроить торопятся. И как здоровье свое драгоценное берегут! Тридцать пять жевков… Страшно, когда такой человек получает власть над людьми. А такие-то и лезут командовать. Распределять блага жизни всегда и легче и прибыльней, чем создавать их.
Первая весомая капля щелкнула по лаковому козырьку старой военной фуражки Лихобабы. Он осторожно снял фуражку с головы, и все молча взглянули на эту каплю и, удостоверясь, подняли лица к небу. Дрогнул от дождевой капли лист на дереве. Капли печатаются в пыли. Одна из них упала на лицо женщины, той, что просила не пронести, пролить дождь над ними. Она вытерла ее ладонью, потом вытерла глаза.
— Поехала, — говорит ей муж, скрывая волнение. — Твердости в тебе нет никакой.
— Да ведь как же, Петрович, это мы теперь с хлебом…
Но, покапав, дождь прекратился, даже не смочил пыль на дороге. Начал стихать гром, реже