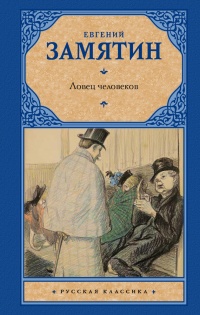жемчуг трудового пота. Он не мог остановиться.
Развлечений было немного — два, собственно. Он любил смотреть, как дерутся груты за крохотный довесок подгнившего масла, как с криками, прямо у двери, делят пайку какого-то большеголового дрожащего уродца в длинной, не по росту, одежде, а тот смотрит своими проклятыми жалобными глазами. Большеголового этого Жрец ненавидел отчего-то сильнее всех — и каждый раз с трудом удерживал зудящие свои руки, чтобы не свернуть уродцу тощую шею.
А еще любил он, уевшись до икоты, тискать и мучить облезлого складского кота, заставляя его жрать то, чего уже не мог переварить сам. Ящики, мешки и коробки теснили Жреца, ползли вверх и нависали над головой, и с этим уже ничего не мог поделать толстяк с оловянными рыбьими глазами, живший за железной дверью, в компании одуревшего кота, на теплом островке среди взбесившейся пурги…
Слизняк стоял, ничего не видя, кроме белесого варева, клокотавшего вокруг, — только спина того, кто стоял впереди, словно вырезанная из серого картона, маячила в вареве. От боли в ноге подташнивало. Слизняк тяжело сглотнул, и закрыл глаза, и качнулся вперед, и вдруг испуганно распахнул их, услышав, различив в волчьем вое пурги — звук.
Звук ровно и грозно тянулся над ветром, над вбитыми в Поле грутами — почти недоступный уху и все-таки реальный: гул самолета, эхо грома, предупреждение?
В измотанной душе Слизняка что-то натянулось — и оборвалось; нестерпимо захотелось закричать, завыть что есть мочи, провалиться сквозь жесткое каменное Поле, исчезнуть, не быть — так невыносим был этот ровный растущий гул.
Но голоса прокатились вдоль Линии, но резанули фальшивые трубы и бухнул барабан, и кто-то толкнул Слизняка в спину, и он покорно пошел вместе со всеми, сначала левым плечом вперед, потом сразу — правым, правым и, уже не видя ничего, марш, марш, марш сквозь белесое, секущее по вывернутому лицу варево, сквозь тошноту и боль, мимо темнеющего на возвышении маленького страшного человека, ритмично рубящего рукой тугой завьюженный воздух.
Квадраты проходили возвышение и терялись в пурге, и кричал что-то Кормчий, а тревожный гул тянулся из-под плаца и набухал в сером, стремительно темнеющем небе.
Зачем мы идем по этому Полю? Куда идем мы? Сколько еще этих кругов, этой метели, этих труб? Я не могу больше, слышите, мне больно идти, больно дышать, и ноет проклятый комок в животе, и лопается мозг, зачем же вы снова идете? Послушайте, что я скажу: я так больше не хочу. Я не хочу больше быть грутом, слышите? Я не хочу быть номером в квадрате, я ненавижу ваши Заповеди и вашу Линию — кто придумал все это, я не хочу, не хочу! Я ненавижу это Поле. Я человек, слышите вы, — человек! У меня стерта нога, я устал, я не могу больше не спать, не могу играть в вашу игру — неправда, что я Слизняк, я человек! Я хорошо учился, я читал книжки, у меня есть мама… Какая пурга, почему так темно, я не выдержу больше, неужели никто не слышит этого звука, почему все плывет куда-то, остановитесь же, я не могу больше, оста…
В механизме квадрата, ползшего по невидимому гигантскому овалу, что-то сломалось; задние шеренги начали натыкаться в пурге на спины шедших впереди, и квадрат развалился, став воронкой, в центре которой лицом вниз лежал человек. Он лежал неподвижно, лица не было видно, и только поземка несла мелкий колючий снег под стриженный затылок, за воротник длинной, не по росту, одежды.
Сломавшийся квадрат сжался над лежащим, сползся в бесформенное пятно, застыл поперек пути. И тогда остальные ползшие по гигантскому овалу квадраты начали натыкаться друг на друга, терять очертания, разваливаться на островки. Из островков, перекрикиваясь, выходили навстречу друг другу люди — и сразу пропадали в молочной пелене, в бескрайнем пространстве Поля. И невидимый, словно из самой этой пелены, хрипя, еще требовал чего-то, взывал и грозил голос: вперед… они — гру… квадра… …поведи и Свяще… висть к врага… смерть.
Последними, пискнув, развалились и умолкли трубы, два раза бессмысленно бухнул барабан, и только тогда в наступившей тишине, вплетаясь в стенания ветра, уже совершенно ясно протянулся над Полем тот гул — ровный и низкий.
И Вечный Дембель видит, как раскачивается лампочка на длинном змеевидном шнуре, и по штукатурке разбегаются от шнура венозные, набухающие чернотой трещины. Он вскакивает, и огромный, похожий на ладонь кусок потолка вминает подушку в изголовье кровати. Словно бумажная, раздирается рама, и пурга начинает хищно хозяйничать в узком полутемном пенале — и вместе с бешеным звоном стекол он слышит вой Сторожащего Двери, увидавшего, как чья-то невидимая рука выламывает дверные косяки, как нетерпеливо бьются о решетку оскаленные на ящиках черепа, почуявшие свободу.
Ревет сигнализация; со стены косо срываются и разлетаются вдрызг часы, разбрасывая по дрожащему полу шестерни и стрелки. В проломе дверей мелькает уцелевший пролет лестницы — Вечный Дембель хватает за рукав Сторожащего Двери, воющего от страха паренька с оттопыренными ушами, и тянет его в пролом, но тот упирается: он не может сойти с места до прихода Старшего, он обязан стеречь эту дверь.
Какую дверь, кричит Вечный Дембель, где ты видишь дверь? Голос его хрипл и страшен. Они ныряют в пролом — и через мгновение тяжко оседает стена за спинами и морозная пыль ударяет в лица.
Перед ними Поле — то, что было Полем. Раскроенное натрое, оно шевелится, словно кто-то тяжело ворочается под ним. Что это, кричит паренек, что это? Вечный Дембель не отвечает, только в серых глазах его, жадно вбирающих открывшееся, появляется какое-то новое выражение.
И в этот миг