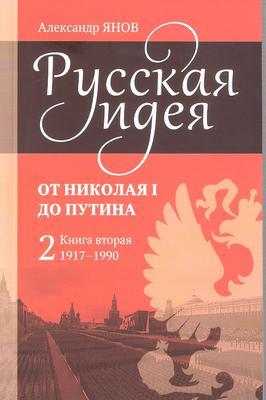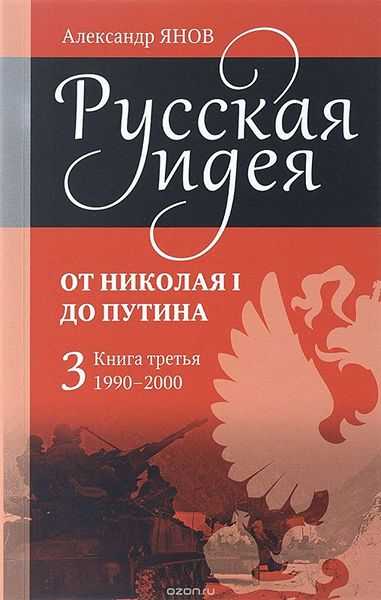осень, коростой изъеденная.
Господи, вплети в косы мне святое неведение,
забери память, забери имя, дай новое.
Степь моя обетованная, время – средневековое,
время моё матерное, кровожадное, страшное.
Стало поле минное, а была пашня.
«Приходила зима – снежная, белая…»
Приходила зима – снежная, белая —
и дерева стояли сказочные, звенящие.
Умирали воины – юные, смелые —
умирали стоя, умирали по-настоящему.
Эх, донецкие ветры – вольница, житница,
а теперь безлюдье – лишь псы да вороны.
И моя Мария – степей защитница,
а вокруг зима на четыре стороны.
И в блокноте крестики в столбик синие,
на погостах новых крестов тьма-тьмущая.
И моя Мария – ресницы в инее,
и тоска на сердце, тоска гнетущая.
По отцу тоска, кровью не смываема,
и слезами тоже она не смоется.
И моя Мария – доченька Николаева —
полушёпотом молится Богородице.
«Не зная ни имени, ни возраста…»
Не зная ни имени, ни возраста,
видит главное по нашивкам – враг.
Воин с рыжей кудрявой порослью
на суровых мужских щеках.
Руки – ломти, краюхи белого,
как поджар он и как высок,
жалко даже в такого смелого,
жалко целить в его висок.
Зубы сахарные, жемчужные,
фальши нет ни в одном из них.
Кто принудил тебя к оружию,
кто послал убивать своих?
«Он стоит на коленях, крестится…»
Он стоит на коленях, крестится,
молод, весел, рыжебород.
Между нами – окно и лестница,
на окне – деревянный кот.
Чей-то кот, позабытый в спешке,
статуэтка, ненужный груз.
Кот-мурлыка ершит в усмешке
свой единственный правый ус.
Тень в углу залегла густая.
Как же зыбок январский свет.
В небе зимнем, что запятая,
чёрный ворон – в броню одет.
Воин тоже в бронежилете,
но висок так опасно наг.
Хрипло воет январский ветер,
назначая, кто друг, кто враг.
«Церковь белая на пригорке…»
Церковь белая на пригорке,
снег похож на лебяжий пух.
Глаз Марии предельно зоркий,
музыкален девичий слух.
За спиною две сотни жизней,
на груди православный крест.
Снег молочный безукоризнен,
снег из рая для адских мест.
И так хочется в детство снова —
в утро первого января,
старый год обернётся новым,
свечка – каплями янтаря.
На льняную скатёрку жизни
истечёт прозорливый воск.
И на кухне, как тюль, повиснет
дым от папиных папирос,
но откроешь глаза и в небо
бросишь взгляд – небосвод свинцов.
Что нас ждёт впереди? Победа!
И отмщенье за всех отцов.
«Родить бы сына…»
Родить бы сына,
назвать Николашей.
Родить невинного,
кормить манной кашей.
Родить красивого,
глазами в деда.
Пусть вырастет сильным,
балованным сердцеедом.
Родить бы дочку,
тонкую, как берёзка,
беленькие носочки,
платье в полоску.
Волос тугой, русый,
не сплесть в косоньку,
плечики узкие,
пяточки абрикосовые.
«Никого не родишь. Только чёрный камыш да слепая луна…»
Никого не родишь. Только чёрный камыш да слепая луна
над рекой, не пройдёт человек, даже серая мышь здесь
боится бежать по прямой. Степь – лоскутный пейзаж и
горячий рубеж, пограничье двух разных миров. Я люблю
этот кряж, его дикий мятеж в кружевах кучевых облаков.
И винтовка в руках, и ни шагу назад, здесь забытая
Богом земля. И бесплодны поля, где под небом лежат
нерождённые сыновья.
«Здравствуй, мама! В моём блокноте…»
Здравствуй, мама! В моём блокноте
не осталось живого места, на сердце пусто.
Как вы там живёте, как вы все живёте,
когда здесь, в степи, алой речки русло?
Разливанны воды, небеса развёрсты,
километры гиблого безвоздушья,
а луна – сухарик окопный, чёрствый,
да и тот был кем-то другим надкушен.
Я убила столько, что думать страшно,
мой последний был молодым и рыжим.
Он бы мог стать братом мне бесшабашным,
он бы мог стать другом и даже ближе.
Я убила столько, что мне приснилось,
как отец спустился с небес к ставочку
белолицым ангелом – Божья милость —
и сказал мне: «Машенька, хватит, дочка!»
Я убила столько, ты не поверишь.
Помнишь нашу яблоньку во саду ли?
Я убила столько, что стала зверем,
на которого жалко потратить пулю.
«Птицы возвращаются на восток…»
Птицы возвращаются на восток,
вместо речки тянется кровосток,
но весна звенит, и готов росток
пробиваться к звёздам.
Как полны и влажны её уста,
а она, дурёха, спешит в места,
где боец, считающий «до двухста»,
и прогорклый воздух.
Ощущенье пьяной, шальной весны.
Мы устали видеть дурные сны,
мы устали жечь во дворах костры
и бояться ночи.
Скоро-скоро речка вскипит водой,
и в неё бы утром войти нагой,
вспоминая рыжего с бородой,
но февраль обочин,
где деревья всё ещё мертвецы,
где не будут вылуплены птенцы,
где стихи читают до хрипотцы,
до истёртых связок,
где рука Марии в моей руке,
где вся жизнь, повисшая на курке,
и слеза солёная в уголке
маминого глаза.
«А с неба не снег, а серые лепестки пепла…»
А с неба не снег, а серые лепестки пепла.
Мария лежит, и горы над ней огромны,
но Мария не видит горы – она ослепла,
врастая хребтом в донецкие чернозёмы.
Она захлебнулась огнём, прикрывалась дымом,