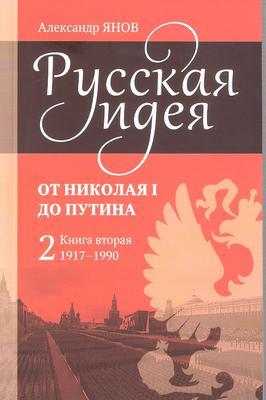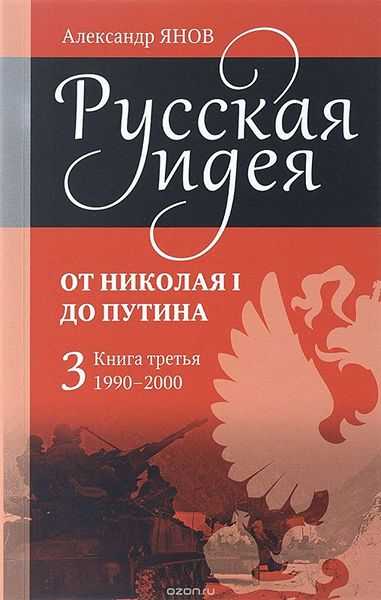запах гниющей воды.
«Мы – подвальные, мы – опальные…»
Мы – подвальные, мы – опальные,
кандалы наши тяжелы.
Мы – идея национальная,
мы – форпост затяжной войны.
Чёрной совести боль фантомная,
боль, что мучает по ночам,
эта домна внутри огромная,
наша ненависть к палачам.
Мы священные, мы убогие,
мы у Боженьки в рукаве.
И глаза Его слишком строгие.
И следы Его на траве.
Утром встанем, пересчитаемся,
похоронимся, поревём.
Эх, война-война – девка та ещё!
Частоколы да бурелом,
заминированы окраины,
человеческий Страшный суд.
Авель помнит, что всюду Каины,
только высунешься – убьют.
«Приносили его на щите…»
Приносили его на щите,
и Мария губами к щеке
припадала, и плакала мать:
«Положите его на кровать!»
Он был хладен, безмолвен и сер,
и был день – беспросветный четверг.
Ну а дальше – на пятницу ночь,
и Мария, шахтёрская дочь,
занавешенных мимо зеркал
проходила в траурный зал
и глядела на лоб мертвеца,
на холодные губы отца,
на его восковеющий лик,
на немой неподвижный кадык,
на пурпурный распахнутый гроб,
словно двери в кровавый окоп,
где он денно и нощно сидел,
где живой он вчера помертвел,
где последнее небо его
выедало из глаз вороньё.
«Воронки, вороньё, война……»
Воронки, вороньё, война…
Мария – дочь степи донецкой,
несчастный ангел бытия,
лишённый ангельского детства.
О безотцовщины клеймо!
О сиротливое удушье!
Война, воронки, вороньё.
Смертельно раненные души.
Прощайте, храбрые сыны,
прощайте, дочери, до встречи.
И лица ваши – лик войны,
и в камне вас увековечат.
Мария, девочка моя,
коса – пшеница, руки – плети.
Воронки, вороньё, война.
А мы войны святые дети,
а мы войны священный крест
несём и, в общем-то, не ропщем,
и в ополченье из невест
уходим через эту площадь.
«Лицом сурова, черна глазами…»
Лицом сурова, черна глазами,
стоит Мария под образами,
в руке просвира – и голос сверху:
«Оставь печали при входе в церковь!»
Крестись истошно, молись о мёртвых,
целебен воздух церковно спёртый.
Не плачь, Мария, молись, Мария,
молитва – та же анестезия.
И голос певчий, прекрасный, звонкий,
и эти свечи, что коногонки,
и путь в тумане, в пыли забоя,
подобен смерти на поле боя,
подобен жизни в твоём Донецке.
Держись, Мария, за бортик детства,
за бортик угольного бассейна
и за винтовку, что из трофейных.
Смотри сквозь оптику в эти звёзды,
с земли, изъеденной чёрной оспой,
с земли, где поле пропахло тленом,
где все вдруг стали военнопленными.
Где мать – вдовица, а дочь – сиротка,
где брат вгрызается брату в глотку.
«С нами Бог, с нами солнце, и с нами дождь…»
С нами Бог, с нами солнце, и с нами дождь,
зарядивший снайперскую винтовку.
Это поле – рожь, а за рощей – ложь,
а за ложью ружья наизготовку.
Это поле – ржавчина старых битв.
Что посеет ветер степей разъятых?
Террикон лежит, словно мёртвый кит,
облака плывут, облака из ваты.
Золочёный гулкий степной закат,
уплывает солнце за край планеты.
Кто во всём случившемся виноват?
Кто спасёт распятую землю эту?
«Горсть земли – трижды. Я стану грызть эту…»
Горсть земли – трижды. Я стану грызть эту
землю – эту рыжую глину, эту свинцовую гирю,
эту чёрную плоскость. До самого горизонта. Я —
Мария, мне двадцать два от роду, я принадлежу
городу, плывущему в облаках. У меня есть
винтовка – СВ Драгунова, зоркость, немного
костей под кожей. Я убью всякого, кто посмеет
подойти ближе, чем эти низкорослые горы. Я —
Мария, и всё, что у меня есть, – это горе. Горе!
«Поле Дикое, цель опознана…»
Поле Дикое, цель опознана,
от винтовки саднит плечо.
Помолитесь, религиозные,
будет страшно и горячо.
Снайпер знает, что надо с первого,
долго целится, не спеша.
В степь Мария врастает нервами,
в них одна на двоих душа.
Точным выстрелом – пулей глупою.
Смерть Марии теперь как мать.
Поле выстлано будет трупами,
ночью станут их собирать.
У Марии в блокноте крестики —
безымянные пацаны.
И они почти все ровесники
развязавшей войну страны.
«Имя горькое твоё – Мария…»
Имя горькое твоё – Мария,
имя твоё убийственное.
Как твоя мать, Мария,
пишет ли тебе письма?
«Как тебе там воюется,
доченька моя светлая?
А у нас на улице
бабье нелёгкое лето.
Яблоки собрать некому
райские – падают сами.
Соль под моими веками,
видимо, что-то с глазами.
Горько на сердце бабьем,
воротись, доченька, с фронта.
Облака плывут, как кораблики,
до самого горизонта.
Пальцы мои бесколечные
крестят небо над городом.
А за кровавой речкою —
вороны, вороны…»
«Господи Иисусе, как же страшно…»
Господи Иисусе, как же страшно,
стало минное поле, была пашня.
Небо черно от дыма, глаза режет.
Господи, мы одержимы, мы – нежить.
Господи, я – отшельник, стрелок, пешка.
Господи, присмотри за мной, установи слежку,
приставь ангела, чтобы рука не дрогнула,
накорми манною дурочку сумасбродную,
дай хоть глоточек чистой воды из колодца.
Путь мой тернистый, путь, что не продаётся.
Лежу, а в глазах