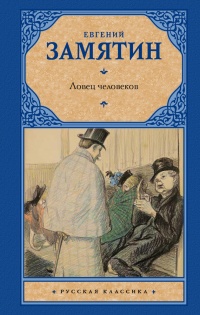и положил посередине, потому что был веселый человек.
1983
Последняя зима
Приземистые дома квадратом чернели по краям асфальтовой равнины, и была равнина странно расчерчена белыми полосами. Больше там ничего не было, только ветер, подвывая, косо нес поземку — она змеилась, закручивалась в кольца и уносилась прочь вдоль обмороженных худых деревьев, гудела в стройках под фанерными щитами, взлетала по забору, затянутому колючей проволокой.
В серую асфальтовую плоскость лупили с крыш прожектора, и называлась плоскость — Поле. В темных, длинных, похожих на огромные пеналы помещениях спали груты. Сны царили над железными кроватями, сны уносили грутов в далекие города, сны томили их прошлым, называли забытыми именами, и темные пеналы заполнялись отрывистым разноязыким бормотанием.
Выстроившись попарно у нумерованных табуреток, ждали рассвета сотни неуютных сапог, за двойной решеткой — в торце пенала, в Хранилище Смерти — покачивалась на шнуре лампочка, и в тусклом свете уходили наверх плоские ящики с трафаретными оскалами черепов.
Все это — длинные дома и груты, спящие в них, асфальтовое, расчерченное по периметру Поле и худые, высаженные через равные промежутки, истощенные ветром деревца, арматура под щитами, черные широкие трубы котельной — все, что отрезал от холодной равнины блочный, затянутый колючей проволокой забор, значилось на далеких секретных картах точкой и номером — таким же секретным.
Никто не помнил, когда на продуваемой ветрами равнине, под этим небом, черным ночью и серым все остальное время, появились дома. Дома, узкие пеналы в них, серые ряды одежд — все это, казалось, было испокон веку: каждое утро груты, спящие в пеналах, вздрагивали от света, бьющего в глаза, и истошного крика Сторожащего Двери; вскакивали, дрожа, толкались в проходах между кроватями, впихивали ноги в холодные сапоги… С этой минуты прошлого не было у них — только порядковые номера, холод и страх не успеть до команды Старшего — тогда все начиналось сначала: постель, не сулящая забытья, свет в глаза и металлический голос, отсчитывающий секунды.
— Слизняк, давай быстрей, сука! — кричали из шеренги большеголовому груту, растерянно топтавшемуся в проходе. Грут был не одет, сапог и портянка висели в опущенных руках. Белое полное тело сотрясал озноб.
— Слизняк, оглох, что ли, урод?
Большеголовый вздрагивал, неумело накручивал на толстую ступню кусок ткани, скуля, впихивал ногу в жерло сапога и хромал в строй. Съежившийся, уже готовый к унижению, он вставал на свое место и все-таки вскрикивал от удара по спине.
— За что-о? — тянул большеголовый, оборачиваясь и затравленно шаря глазами по лицам. Он не знал, кто его ударил. Ударить мог любой. Это была игра, в которую играли здесь с незапамятных времен.
Называлась она «бей лежачего».
— Молчи, урод.
Большеголового грута звали Слизняк. Раньше у Слизняка было имя, но оно забылось, ушло, кануло в тяжелые сейфы, а с ним остались: слово «грут», номер и вот это прозвище. Когда Слизняк на прозвище не откликался, его били. Это тоже входило в правила игры.
Как он попал сюда, за блочный забор с проволокой, в этот холодный пенал, выходящий окнами на каменное поле, до сих пор было не понятно ему, казалось чьей-то дурной шуткой, ошибкой, недоразумением. Иногда Слизняк с тайной надеждой прижмуривал глаза, но, открыв их, обнаруживал все то же: серый пенал, ряды железных коек, чужие лица вокруг — и скользкий комок ныл в животе, и тоска петлей захлестывала горло.
Утром над Полем пронзительно и фальшиво пела труба. В домах разом, по трое в ряд, вспыхивали окна, из домов сотнями высыпали одинаковые, как муравьи, груты; гонимые криками старших, груты сбивались в квадраты и кругами бегали по Полю в утренней мгле — девять кругов в будни и двенадцать в праздники — груты должны хорошо бегать, чтобы, когда придет час, без устали нести смерть далекому врагу. Потом, как было заведено однажды и навсегда, квадраты выстраивались в Священную Линию, чтобы увидеть Кормчего и приветствовать его Священным ревом.
Священная Линия тянулась — прямая, как судьба грута, — и терялась вдали; отрывистые команды прошивали начинающий светлеть воздух. Узкие пеналы пустели в это торжественное время; никого, кроме Сторожащих Двери, не оставалось там.
Кроме Сторожащих Двери — и еще одного человека.
Человек лежал в сапогах на какой-нибудь кровати или молча бродил по пустым помещениям, будто искал что-то, потерянное в незапамятные времена, и Сторожащие Двери вытягивались, когда он проходил мимо.
Никто уже не помнил, когда впервые появился здесь этот человек, словно вместе с Полем, приземистыми домами и забором с проволокой холодная земля вытолкнула из себя и его. Ни в одном списке человек не значился — груты появлялись и исчезали, когда выпадал их номер в опечатанном Секторе Свободы; огромные пеналы наполнялись новыми голосами, а он все бродил по полутемным помещениям, лежал, сумрачно глядя в потолок, вставал, брел через Поле в кормежный зал, ел, уходил — и никто не смел останавливать его.
Номера у человека давно уже не было, откуда он — не знали, почему не уходит — шептались за мощной сутулой спиной.