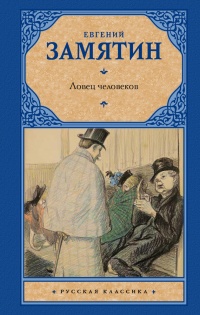ясно, что против крысы теперь не только количество, но и качество.
— Несите воду, — приказал лейтенант.
— Послали уже, — бестактно ляпнул Шапкин.
Из-за угла показалась нескладная парамоновская фигура. Руку оттягивало ведро.
— Быстрее давай, Парамон гребаный! — Ахмеда захлестывал азарт, а лейтенанта здесь давно никто не стеснялся.
Парамонов ковылял, виновато улыбаясь; у самого финиша, с полупустым ведром, его обошел Длинный.
— Хитер ты, парень, — отметил внимательный старшина.
— Так я чего, Игорь? Ведь хватит воды-то. Не хватит — еще принесу.
— Ладно. Давай мухой за пустыми…
Кузину было не до Длинного — надо было организовывать засаду.
Минуту спустя Парамонов начал затапливать крысиное метро.
Крыса уже давно чувствовала беду. Она не ждала ничего хорошего от света, хлынувшего в ее ходы. Когда тот обрушился на нее водой, крыса поняла, что наверху враг, — и ринулась ему навстречу, потому что ничего и никогда не боялась.
Крик торжества потряс территорию хлебозавода.
Огромная крыса, оскалившись, сидела на дне высокой металлической посудины — мокрая, сильная, обреченная. На крик из палатки, вытирая руки о коричневую уже бельевую рубашку, вышел повар Ян, он же рядовой Лаукштейн. Постоял и, не сказав ни слова, нырнул обратно.
Лейтенант Плещеев смотрел на клацающее зубами, подпрыгивающее животное. Он боялся крысу, и ему было неприятно, что она так хочет жить.
— Кузин, — сказал он, отходя, — после обеда всем оставаться тут.
И калитка запела, провожая лейтенанта.
Спустя несколько минут крыса перестала бросаться на стенки ведра и, задрав морду к небу, застучала зубами. Там, наверху, решалась ее судьба.
Хлебозаводу хотелось зрелищ. Крысиной смерти надлежало быть мучительной.
Суд велся без различия чинов.
— Ут-топим, реб-бят, а? Пусть з-захлебнется, — предложил Парамонов.
Предложение было односложно забраковано Шапкиным. Он был молчун, и простое и недлинное слово его ценилось у бойцов.
— Повесить сучару! — с оттягом сказал Григорьев, и на жилистой шее прыгнул кадык. Чрезмерную затейливость своего плана Григорьев понимал и сам, но желание увидеть крысу повешенной внезапно поразило рассудок.
Тут Ахмед, все это время громко восхищавшийся зверюгой и тыкавший ей в морду прутом, поднял голову к Кузину, стоявшему поодаль, и, блеснув улыбкой, сказал:
— Жечь.
Приговор был одобрен радостным матерком. Григорьев, признавая ахмедовскую правоту, сам пошел за соляркой. Крысу обильно полили горючим, и Кузин бросил Парамонову:
— Бегом за Яном.
Парамонов бросился к палатке, но вылез из нее один.
— Игорек. — Виноватая улыбка приросла к лицу. — Он не хочет. Говорит: работы много…
— Иди скажи: я приказал, — тихо проговорил Кузин.
Ахмед выразился в том смысле, что если не хочет, то и не надо, а крыса ждет. Шапкин возразил на это в том смысле, что, мол, ничего подобного, подождет. В паузе Григорьев высказался по национальному вопросу, хотя Лаукштейн был латыш.
Тут из палатки вышел счастливый Парамонов, а за ним и повар-индивидуалист. Пальцы нервно застегивали пуговицу у воротника. Кузин победительно улыбнулся:
— Давай, Ахмед.
Крыса уже не стучала зубами, а, задрав морду, издавала жалкий и неприятный скрежет. Ахмед чиркнул спичкой и дал ей разгореться.
Крыса умерла не сразу. Вываленная из посудины, она еще пробовала ползти, но заваливалась на бок, судорожно открывая пасть. Хлебозаводская дворняга, притащенная Ахмедом для поединка, упиралась и выла от страха.
Через час в палатку, где яростно скреб картошку Лаукштейн, молча вошел Шапкин. Он уселся на настил, заваленный серыми кирпичами хлеба, и начал крутить ручку транзистора.
Он занимался этим целыми днями — и на ночь уносил транзистор в расположение хозвзвода. Лежа в душной темноте, он курил сигарету за сигаретой, и светящаяся перекладинка полночи ползала туда-сюда по стеклянной панели.
Григорьев метал нож в ворота нижнего склада, раз за разом всаживая в дерево тяжелую сталь. Душу его сосала ненависть, и смерть крысы не утолила ее.
Парамонов оттаскивал в сторону гнилые доски. Нежданный праздник закончился; впереди лежала серая дорога службы, разделенная светлыми вешками завтраков, обедов, ужинов и отбоев.
Длинный укатывал к свалке ржавые баки из-под воды. Его подташнивало от увиденного. Он презирал себя и ненавидел тех, с кем свела его судьба на этом пятачке между сопок, оцепленном по периметру колючей проволокой.
Лейтенант Плещеев, взяв свою дозу, лежал в блочно-панельном убежище, презрительно глядя в потолок.
Старшина Кузин дремал на койке за складом. Босые ноги укрывала шинель. Приближался обед. Солнце припекало стенку, исцарапанную датами и названиями городов. До приказа оставались считаные дни, а до дембеля — самое большее месяц, потому что полковник Градов обещал отпустить первым спецрейсом.
А крысу Ахмед, попинав для верности носком сапога, вынес, держа за хвост, на дорогу