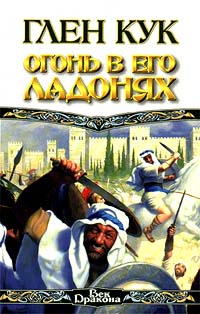Солнц их пускали в бой в первую очередь. Так и извели, слава Иссу.
Пустые глазницы, ряд зубов.
— А кем, — сглатывает княжич, осмеливается продолжить. — Кем был Иссу?
— Любимой Лилией первого императора, — лягушачье кваканье, ненастный гул в пучине туч прокатывается дробью. — Однако дети с лилиями рождаются и поныне. Редко, но рождаются. Их умерщвляют, как только выявляют форму, — ветер несет отголоски потустороннего вопля. — Цветущая Лилия — ужасающее действо, юный господин, а обезумевшая Лилия вовсе страшнее любого зверя в своей первозданной жажде.
На кухне непривычно шумно и людно. Плетут венки служанки, возбужденно шепчутся меж собой. Пересмеиваясь, краснеют, словно заря тронула их щек, переглядываясь, пихают друг друга локтями, пока ловко сплетают стебли пальцы. Ароматны полевые травы и цветы.
— Какого жениха хочешь, Мокко?
— Высокого, лицом пригожего.
— Главное, чтобы смирный нравом был. И руки не поднимал.
— Не пил. А то с пьяницами бед не оберешься.
— Да в азартные игры не играл. Иначе денег не будет в семье.
— Подарки дарил, одевал красиво.
— Кормил досыта.
— Любовниц не заводил.
— А если уж заведет, то на порог их не пускал и надолго не увлекался.
— Воина себе хочу. Смелого, сильного. Чтоб на руки подхватил и так кружил-кружил.
— Дура. Помрет ещё на войне да вдовой останешься раньше срока.
— Лекаря лучше. С ним и сама здорова, и дети не хворают.
— А мне бы купца. Богатого.
— Ох, девки, — усмехается беззлобно кухарка. — Раскатали вы знатно губу.
— А вы дайте помечтать!
— И правда!
— Разве не нужно ещё, чтобы жених вас любил? И вы его любили? — спрашивает ребёнок. Поджав ноги, перебирает горох.
— Нет, — фыркает Мокко. — Глупость это.
Нокко украдкой бросает на неё недовольный взгляд. Другие же девушки заходятся громким смехом, всплескивают руками.
— Пускай он и любит, его же любить вовсе необязательно.
— Верно. Мужчины очень ветрены и непостоянны.
— А ещё привередливы, капризны и лживы.
— Полюбишь — так страдать потом будешь.
— Только бы не старый был.
— И не уродливый. А то дети выйдут страшненькими.
— Дочерей замуж выдать не сможешь, и на сыновей ни одна девушка не взглянет.
— Хочешь с нами погадать? — предлагает вдруг Нокко ребёнку.
И тот скупо пожимает плечами. Чешет коленку.
— А разве на невест так гадают?
— Отстань от него, Нокко. Ты чего?
— Не гадают, — отвечает та со вздохом, отворачивается. Голубая лента в волосах. Незаметная крапинка крови на ней. Так и не удалось до конца вывести.
Служанки же потешаются пуще прежнего.
— Ишь чего захотел!
— Ты же евнух. Какая тебе невеста?
— Только какая-нибудь слепая да убогая.
— Бедняжка. Никакого ей удовольствия на ложе.
— А ну-ка цыц, — вмешивается кухарка, утирая предплечьем пот со лба. — Раззадорились-то, пустоцветы. Воздух только сотрясаете.
Хмурится божок, навострив недовольно усы. Ребёнок же отводит взгляд. Гороховой стручок в пальцах. Проходится ноготь по шву, раскрываются половинки.
Вытянули шеи девушки, переплелись руками. Взбудораженные охают, ахают, на носочки становятся. Не утонул бы пущенный по реке венок, не пристал бы ненароком к берегу. Пускай плывет, родимый. Пускай скрывается вдали. Чтобы явился статный жених, чтобы случилась добрая перемена. Наблюдает ребёнок, сидя на верхней ступени лестницы и подперев подбородок кулачками, а в рукаве припрятаны пучки нарванной наскоро травы.
Неказист детский венок. Кособок и беден на краски — не рвать же в саду господские цветы, а в поле никто не пустит в ночь. Вплетены махровые звездочки одуванчиков, что росли у кухни.
Бросает ребёнок венок на гребень волны. Тает закат тонкой полосой гранатового жара, провожает тоскливым взглядом.
— Глупости, — бубнит ребёнок себе под нос, но есть в созерцании удаляющегося венка нечто, что ободряет на зябком ветру. Обещает сокровенно и заботу, и ласку, и принятие.
Пересекает Тодо мост, возвращаясь из города. Цепляется случайно взглядом за нечто желтое, стремительно несущееся по волнам. Щурится, замедлив шаг, а разглядев венок, вспоминает с легкой полуулыбкой, что принято гадать в этот летний день.
Венок же течет дальше. Не в силах нагнать остальные кружится сам с собой, пока не цепляется за корягу, не пристает к берегу. Где его замечает княжич. Шумно пьет конь рядом, наблюдает глазом цвета ореховых скорлупок за хозяином, когда тот ступает в воду, поддевает венок кончиками пальцев, возвращая журчанию волн, увлекающих дальше.
— Вам письмо, господин учитель. Служанки принесли, — кивает на стол кухарка. — Сдается мне, оно долгий путь проделало. Искало вас видать.
— Благодарю.
Миска риса. Садится на веранду Тодо, подобрав под себя одну ногу. Согнуто колено, опирается спина на столп. Разворачивается лист, исписанный косыми строками. Выведены те неумелой рукой, но выведены старательно, пусть и расплылись уродливые кляксы.
И закрыв глаза, Тодо легко может представить, как хмурился старый слуга, как ругался и бурчал, грозясь нависшими бровями, разросшимися над глубоко посаженными глазами точно кусты. Упорно продолжал писать, ведь научил его когда-то совсем юный хозяин. Странный хозяин, кроткий и замкнутый, предпочитающий книги мечу.
«Смею сообщить вам, добрый господин, что у брата вашего сын родился месяц тому назад. Крупный мальчонка, крепенький. На отца вашего, пусть покоится он с миром, похож. Порода воинская».
Ребёнок заинтересованно выглядывает из-за косяка. Склоняет голову, подмечая опущенные плечи и отрешенное выражение мужского лица. Словно набежала в ясную погоду тучка.
Писал тайком слуга, веря, что его бывший господин всё ещё часть семьи. Только это давно не так. С первого ли отцовского «я разочарован», или же с пощечины, когда ещё мальчишкой Тодо сказал, что не желает следовать пути воина. А возможно с момента, как переступила нога порог, покидая отчий дом, направляясь в храм.
Смиренное прощание с матерью, не снимающей траура который год.
— Ты всегда был с изъяном, но теперь уж поздно жалеть. Ступай с миром.
Поклон разразившемуся бранью и проклятиями отцу.
— Щенок. Выпороть бы тебя до полусмерти. Чтоб кровавые слезы выступили и кости затрещали. И чтоб даже пикнуть не смел не то, что позорить семью. Да у матери сердце не выдержит.
И ни одного письма с тех пор, ни одного ответа. Вычеркнут и забыт. Неправильный сын, пропащий сын.
«Надеюсь, у вас всё хорошо, добрый господин. Пришлите мне весточку. Братьям вашим я говорить ничего не стану. Не держите на них зла. Упрямые они да гордые. Такова их натура. Будьте здоровы, добрый господин, а я помолюсь за вас».
Глядят старшие братья с презрением, плюют вслед:
— Лучше б в детских летах помер.
— Что, братец, небось рад радёшенек, что отца огорчил? Кровь ему попортил.
— Даже не смей возвращаться, жалкий трус.
Но то не ранит.
— Учитель Тодо? — он моргает.
Ребёнок же ставит тарелочку с соленными сливами и миску бульона.
— Вот,