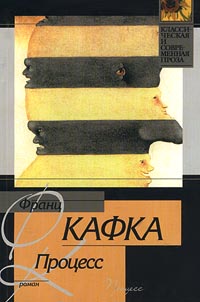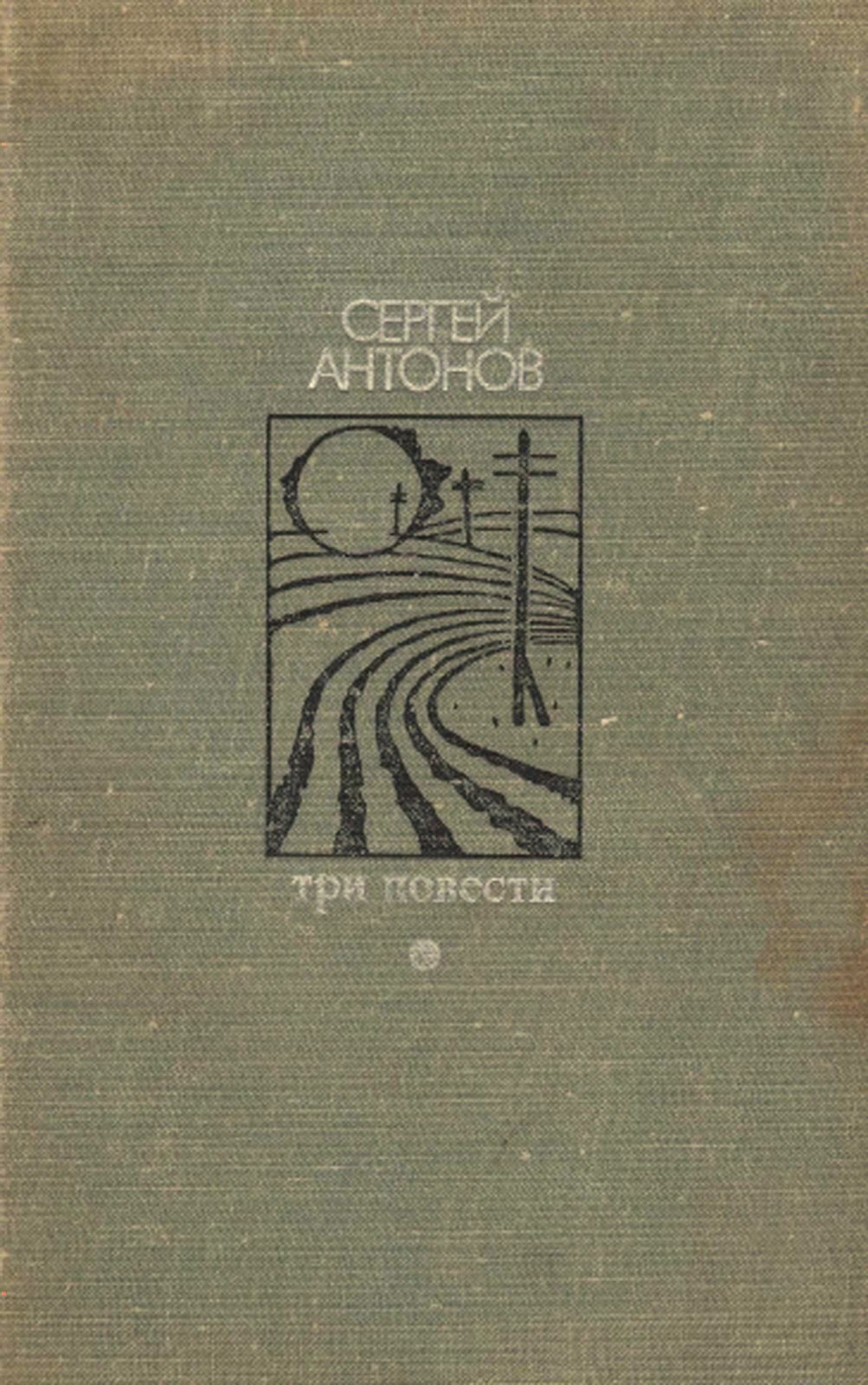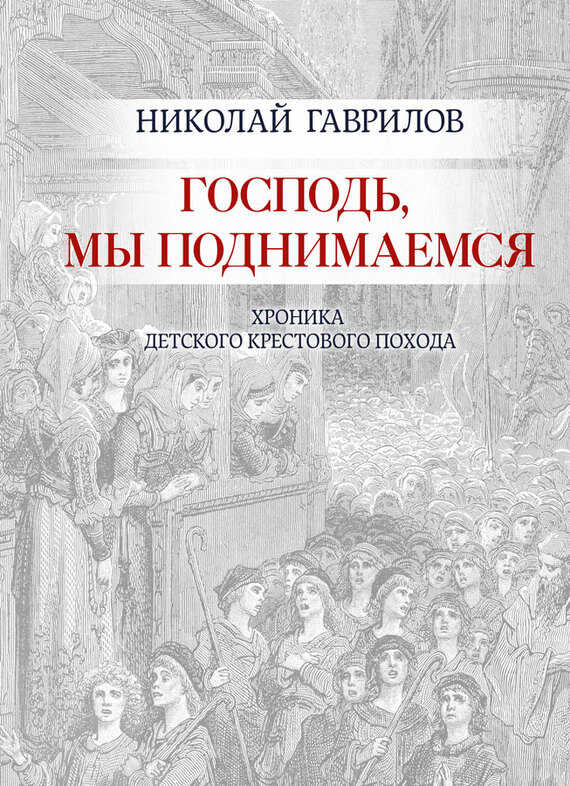него страшно обременительно. Выходя из дому то убогим студентом, то элегантным лектором, Степан менял не только одежду, но и выражение лица, жесты, походку. Он был един, но в двух лицах, каждое из которых имело свои особые функции и задачи. Человек не мог бы придумать многоликих богов, если бы сам не был разнообразен, представляя собой странное соединение поразительных противоположностей, требовал для каждой из них воплощения, и стремление к созданию одного великого бога с маленьким чортом знаменует уже нормализацию человеческого существа, то есть усыхание его воображения. Человек не разлагается на так называемое добро и зло, на плюс и минус, как бы удобно это ни было для общественного употребления.
Очутившись в состоянии неопределённого равновесия между рыжим френчем и серым пиджаком, Степан не страдал от двойственности своего существования. Ибо за зиму он убедился, что на мир и самого себя нужно смотреть снисходительней, чем ему казалось раньше, так как в жизни, как и в гололедицу, можно упасть
и других свалить, совершенно случайно и неожиданно для себя и для ближнего.
Вся эта беготня и напряжённая работа, может быть, и истощили бы его, если бы он окончательно не решил переменить квартиру. Это решение изменило его отношение к коровам и Мусиньке. Зная, что вскоре освободится от них навсегда, он начал проявлять к ним ласку хозяина и тем временем расспрашивал товарищей о комнате и осматривал некоторые, но все они были связаны либо с ремонтом, либо с отступными, а он денег не хотел тратить, прекрасно понимая, что у него всё равно нет возможности нанять хорошее помещение.
В конце июня институт окончательно замер. Последняя экзаменационная сессия окончилась, коридоры опустели, и только изредка заходили студенты за отпускными свидетельствами. Но Степан ещё часто посещал его, занятый общественными делами. В маленькой комнате КУБУЧа и застал его как-то Борис Задорожный.
— А, вот куда ты забрался! — воскликнул Борис. — Отчего ты пропал так внезапно?
— Дела, — ответил юноша, показывая на груду бумаг.
— Дела делами, а товарищей забывать не следует… Помнишь у Шевченко: кто товарищей забывает, того бог карает… Ну, хорошо, что нашёл тебя.
— Ты меня искал?
— Несомненно. Видишь ли, я окончил институт…
— Мне ещё два года, — вздохнул Степан. — Говорят, что ещё один накинули.
— Я пять лет страдал, и то ничего! Но вот в чём дело — я оставляю свою комнату и ищу порядочного человека…
— Мне комната нужна до зарезу!
— И ты ещё удивляешься, что я искал тебя? Только не думай, что я на стаж еду: я по научной части пошёл, при кафедре остаюсь. А комнату себе нашёл большую, солнечную…
— Везёт же тебе!
— Да, должен же я получить награду за страдания! Но ты, Стефочка, на знаешь самого главного — я женюсь.
— На той самой?
— На той самой блондинке… Ох, не могу я про это спокойно говорить! Сам понимаешь — любовь…
Степан радостно обнял его, чувствуя странное облегчение, словно у него с плеч свалилась гора, которую он всё время нёс на плечах.
«Вот, если бы ещё и Мусиньку замуж выдать», — подумал он.
Вечером они оформили дело с комнатой, и Степан сказал товарищу:
— У моих хозяев мне было неспокойно, всё время гости, шум, прямо невыносимо. Ты очень мне помог. Спасибо, Борис.
Тот горячо пожал ему руку.
— Это такая мелочь, не благодари, — взволнованно ответил он, оставив свой шутливый тон. — Мне теперь доставляет радость сделать другим что-нибудь приятное. Я даю копейку нищему, и мне хорошо…
— Что-то ты сентиментальничаешь, — заметил юноша.
— Может быть. Влюблён ведь в корень! Ты не смейся — любовь есть. Начинаю, брат, верить в вечную любовь, ей-богу!
Борис дал ему свой новый адрес и просил зайти недели через две, когда он устроится и отпразднует свадьбу.
«Ну, это опасно», — подумал юноша, а вслух прибавил:
— Я завтра же перебираюсь.
На прощанье они поцеловались.
Степан думал о Борисе и не мог допустить, что здесь может быть речь об обоюдном чувстве. Он представил себе Надийку, её глаза, которые когда-то ему смеялись, и как-то убедился в том, что любить она может только его — Степана Радченко — и никого больше. Только он имеет на неё какие-то неведомые никому права и на его призыв она должна притти немедленно. Юноша, так себя чувствовал, словно обладал верховной властью над счастьем товарища и позволял ему этим счастьем пользоваться.
Потом ему стало жаль Бориса. Счастливые напоминают больных и нуждаются в осторожном обращении. Счастье в конце концов — болезнь душевной близорукости. Возможно оно только в условиях неполного учёта обстоятельств и неполного знания вещей. Острое зрение — точно такое же горе, как и слепота, и самые несчастные люди — астрономы, которые и на ясном солнце видят досадные пятна.
Отчасти взволнованный близкой встречей со счастливым человеком, а ещё больше неизбежным прощанием с Мусинькой, юноша был, печален и не мог вполне ощутить радость от перемены квартиры, начала независимого продвижения в прекрасный мир. Хоть он и повторял слова Мусиньки, которая обещала не задерживать его, когда станет ненужной, но всё же был весьма неуверен в том, признает ли она себя ненужной именно тогда, когда он этого захочет.
Он вздыхал и томился до ночи, злился на несправедливость возможных неприятностей за все услуги, которые он оказал семейству Гнедых.
Действительно, когда он как бы шутя объявил новость, она разразилась над Тамарой Васильевной громовым ударом. На миг она как-то притихла, и юноша испугался, не упала бы она в обморок. Вот была бы забота!
Но вот она зашептала так тихо, что он еле разобрал её слова:
— Ты уйдёшь… Я согласна… Я знала… Перед тобой ещё всё. Останься только до осени. Осенью ты уйдёшь… Будут опадать листья. Будут тихие вечера… Тогда ты уйдёшь… Пусть это будет маленькая жертва… Перед тобой ведь всё. Жизнь, счастье, молодость. Перед тобой всё.. Я прошу только крошку. Неужто это так трудно? Или ты не хочешь убирать за коровами? Ну, возьмём работника… Переходи в комнаты… Что ты хочешь… Ну, не до осени… на один месяц! На неделю! На один день, только не сейчас, не сейчас!
Он выслушал её и сказал, придавая своему голосу жалость и тоску, силясь высказать глубокое сочувствие её горю:
— Дело так с комнатой подвернулось… Мусинька, я же буду приходить к вам…
Она вдруг бросила его руку,