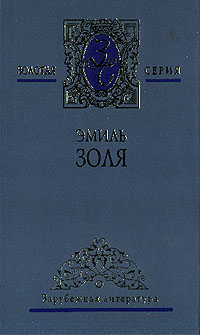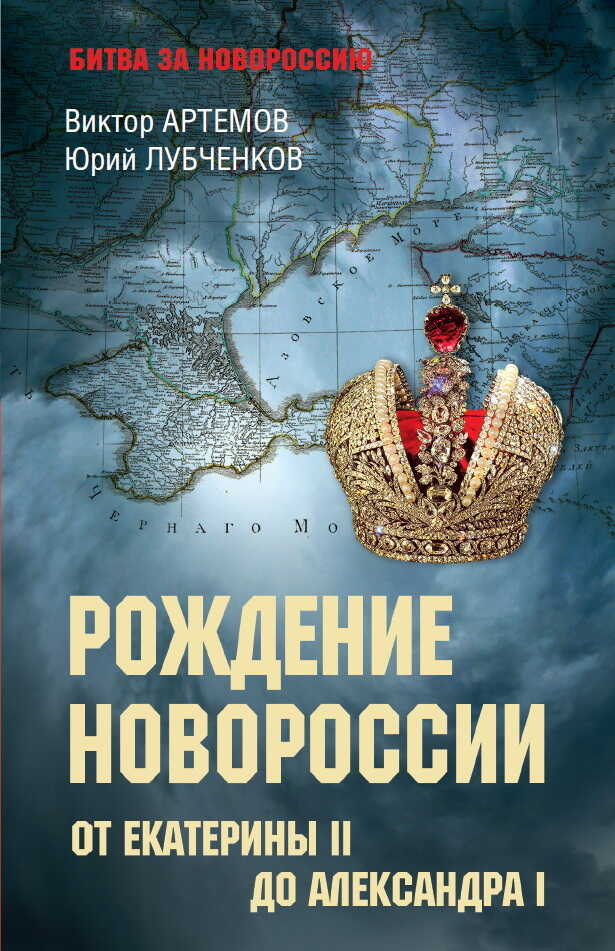все, а не идут. Уверены...
Пусть не идут! Это даже хорошо. Он, Петраков, сейчас вряд ли в состоянии нормально говорить с любым из них. А много ли толку в крике, в обвинениях, когда ясно: этих людей не убедишь ни самыми справедливыми словами, ни конкретными фактами, ни острой правдой, ни горькими уроками истории, каких накопилось с избытком. Ни к чему все это...
Удивлялся Иван Андреевич и самому себе — он не уставал лежать. Здоровый же человек, а поди ты! Неделю-другую назад он не мог и дня выдержать без дела. По утрам, когда рабочие спешили к трамваю, чтобы успеть на завод, он бегал, прижимаясь к тротуарам, бегал, тренируя тело. Мокрым от пота возвращался домой, плескался под душем, лишь потом приступал к своим обычным делам. Иначе не мог. А сейчас даже встать, чтобы умыться, было для него тяжкой обузой. Ни к чему все это, ни к чему... Пропади все пропадом.
2
К Ивану Андреевичу явился Уоткинс. Он вошел, деликатно ступая на носки. Постоял у постели, отыскал взглядом стул и придвинул его. Он сидел молча, как сидят около тяжко больного человека. Посмотрел прямо в глаза, сочувствующе покачал головой, как бы по-дружески говоря, что готов чем угодно помочь, но разве в таком состоянии поможешь. Сосредоточенный на Петракове, Уоткинс ссутулился, устало опустил плечи.
— Вы зачем пришли? — глухо, в подушку спросил Иван Андреевич. Разговаривать ему не хотелось, да и не о чем, сама личность Уоткинса даже сейчас, при полном одиночестве Ивана Андреевича, не вызывала желания к общению. — Зачем пришли, спрашиваю? Или это надзор? Не сбегу... Некуда, невозможно — вот беда!
— Извините, господин Петраков, но я не тюремщик, не надзиратель. Позволю заметить, не заслужил такого оскорбления. — Уоткинс пытался смотреть на Петракова обиженно, но это не удавалось. Обида — и от кого!..
— Все вы тут надзиратели, все один другого стоите. Не тратьте слова даром, не поверю ничему, — ровно говорил Иван Андреевич, глядя в подушку и этим будто отталкивая от себя незваного собеседника.
Его холодность Уоткинс понял как четкую трезвость человека — пережил, конечно, в последние дни; кому ни доведись, каждый пережил бы, значит, много передумал и теперь, конечно, созрел для окончательного решения. Хорошо, если это решение благоразумно. Человек он рассудительный, ситуацию понимать должен.
— Пришел к вам, господин Петраков, только с одной целью — навестить. Может быть, вам что нужно? Как с питанием? Устраивает ли наша кухня?
— В тюрьмах обходятся без ресторанных меню.
— Зачем вы так, господин Петраков! Пройдет немного времени, привыкнете, да еще как начнете капризничать...
— Не привыкну! Вы все-таки зачем пришли? Я не нуждаюсь в вашем обществе. Не нуждаюсь! Чего вы ждете? — напрягаясь, приподнимался Иван Андреевич. — Скажите только одно: на мои телеграммы из дома ответы поступали? Вы близки к Гровсу, должны знать.
— Ответы? — вздернул Уоткинс брови, как взрослые делают иногда, прежде чем обманным ответом погасить щекотливое любопытство малолетних детей. Он зашуршал в кармане бумажкой, вытаскивая ее.
Иван Андреевич впился глазами в эту бумажку. Из дома или из лаборатории? Кто подписал? Что сообщают? Всмотревшись, с трудом признал телеграмму. Значит, никуда не передавали.
У господина Уоткинса на лице — радостное удовлетворение. Он не отдавал в руки Петракова его же телеграмму, а медленно сминал ее и следил, как менялось настроение Ивана Андреевича, как разрастались на щеках темные пятна, угасал и без того убитый взгляд. «Вот так, господин профессор! Чего стоит ваш авторитет, известность? Здесь свои авторитеты, с ними придется вам считаться. Прежде всего с ними, а потом уж со своими взглядами, вкусами, со своим опытом» — так думал Уоткинс, а говорил совсем иное:
— Если б я не уважал вас как очень крупного ученого, а теперь, после личного знакомства, еще и как интересного, весьма цельного человека, то, поверьте слову джентльмена, моей ноги не было б у вас. Но я пришел и не раскаиваюсь, даже после, извините, вашей грубости.
— Зачем вы пришли?! — негодующе вырвалось у Ивана Андреевича. Он повернулся лицом к стене и лег.
— Я уже сказал, цель одна — вас навестить. Вижу, состояние ваше удовлетворительное, можно чуть-чуть поговорить о деле.
Уоткинс прошел к письменному столу, переложил с места на место пухлые папки, передвинул стопу больших листов-таблиц. Нетронуто... «До каких пор ты будешь валяться в постели?» — склонившись над бумагами, посмотрел он на Петракова.
— Господин профессор, времени у вас теперь достаточно. Если найдете нужным, посмотрите все, что на столе. Это — моя продукция.
— Прикажете доложить свое мнение в письменном виде или как? — прогудел у стены голос Ивана Андреевича.
«Упрям... Даже в таком положении упрям», — замер у своих бумаг Уоткинс.
— Я вас понимаю... Намекаете на наш недавний разговор. Поясню...
— Нечего пояснять! У обреченных пленников мнения не спрашивают!
— Не надо волноваться, господин Петраков. Вот у вас как раз и спрашивают мнение. И в первую очередь прошу я. Вас отсюда не выпустят, я это знал раньше. И все же просил. Вот и сейчас... Напишите! Это не прихоть. Речь идет о моей дальнейшей жизни. Я могу пригодиться. В вашем положении такими, как я, не бросаются...
«Не тот ли подходящий случай? — быстро взглянул на Уоткинса Иван Андреевич. — Сблизиться, сообщить с его помощью на Родину...» И уже видел, как они сидят с Уоткинсом над одними и теми же бумагами, обследуют замерших над шахматной доской мужчин, пожимают руки друг другу после трудового дня. Как же так? На что это будет похоже? Как вообще можно по-дружески жать руку этому человеку? Какая совесть у тебя, товарищ профессор, если ты способен на это? Почему ты терпишь присутствие этого человека?.. Иван Андреевич резко проговорил:
— Уходите!..
Выпрямился Уоткинс, поправил на белом воротничке галстук.
— М-мда-а... — причмокнул он губами. — Что ж, уйду. Не думаю, что вы останетесь в выигрыше.
Он уходил теперь уже по-настоящему обиженным. Было из-за чего. Гровс, недремлющая кара, постоянно отчитывает его: старый пень, матерый фальсификатор... И постоянно требует: что сделано? почему никаких сдвигов? какие предпосылки в эксперименте? Можно подумать, что Уоткинс — свят дух, все умеет. Он, видите ли, обязан быть умнее, удачливее всех работников Центра. Да что там господин Гровс?! Залетное ничтожество — пленник, даже он покрикивает... Знал бы