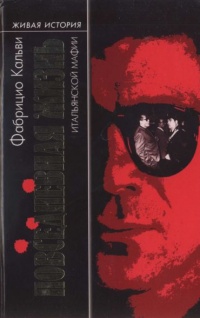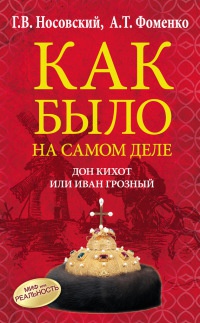— Ой, смотри, Омеро, тутовые деревья у реки. Напоминают мне о детстве, что я провел, собирая шелкопрядов… А это что?
Фабрицио увидел, что вдоль реки мчатся два всадника на белой лошади. Их нагоняла дюжина солдат, также верхом, и карета, вздымающая клубы пыли. Отражение вереницы лошадей и кареты, перевернутое в реке, через телескоп виделось в нормальном положении.
Фабрицио наблюдал, как двое всадников спешивались. Мужчина с нежностью и почтением помог девушке сойти с лошади. Несмотря на расстояние, через стекло все виделось невероятно отчетливо, можно было различить даже капли пота на конских боках. Внезапно появились солдаты и соскочили с лошадей. Мужчина упал на колени, подкатила карета, из нее вышла пожилая женщина — происходящее казалось сценой из оперы. Затем все исчезло в потоке света.
Священник отнял телескоп от глаз, вытянул руку вперед и принялся его рассматривать. Что же это такое я вижу? В самом деле, странный и удивительный прибор.
Что касается Омеро, он прислонился к стене и мирно наслаждался вином.
— Vivace,[4]— бормотал он, жмурясь от восторга и причмокивая губами.
Фабрицио не обращал на него внимания. Он заметил кое-что еще. Знакомая ему повивальная бабка торопливо шла по узкой улочке, полы одежды развевались, когда она прибавляла шагу. На секунду Фабрицио потерял женщину из виду, но затем она появилась на другой улице, направляясь к высоким двустворчатым дверям герцогского дворца, стоящего возле площади сразу за башней. Как только слуга открыл на ее стук, она проскользнула внутрь, не дав двери открыться настежь. Подняв телескоп на окна третьего этажа, Фабрицио увидел юную красавицу-герцогиню, лежащую в постели в своей комнате. В поле зрения показалась повивальная бабка. Когда она подошла к кровати, герцогиня выгнула спину и закричала — он видел широко открытый рот, но не мог ничего слышать на таком расстоянии. Его сердце затрепетало. Он прикусил губу, не отводя взгляда. Рождается дитя!
В телескоп он увидел герцога, с гордым видом расхаживающего по улицам. Грудь — колесом, лицо раскраснелось в радостном ожидании: сегодня должен появиться на свет его первенец. Священник опустил прибор, печально усмехнулся про себя и застыл, погруженный в размышления.
И вновь Дон Фабрицио посмотрел в телескоп. В последних лучах заходящего солнца мир был ярким, сияющим. Вдоль реки шел Родольфо со скелетом за спиной — и вдруг снова Родольфо, но еще совсем юный. Как я могу это увидеть? Каким образом этот прибор позволяет мне видеть такое? Он опять увидел Родольфо, на этот раз лежащего в зарослях прибрежного тростника, недвижного, словно мертвый. И еще он видел, как отъезжает повозка.
— Послушай, Омеро. Есть в этом приборе что-то совершенно необычное. Честно сказать, не знаю, что я вижу: прошлое, настоящее или будущее. Или, возможно, все это одновременно. Иди, взгляни еще раз. — Священник протянул телескоп, Омеро взял его. — Не бойся. — Маленький человечек посмотрел в трубу. — Что ты видишь?
— Представление на площади вот-вот начнется.
Опустилась тьма с льдистыми брызгами звезд, но комета не появлялась. Ночь тянулась, они продолжали ждать, Фабрицио терпеливо, Омеро с растущим раздражением.
— Где она? Скоро петух запоет, а я так ничего и не видел. Где эта окаянная комета? Прилетит она или нет?
— Терпение. — Фабрицио осмотрел небо через телескоп. — В любом случае ночь выдалась восхитительная. Взгляни на эти звезды — они были здесь задолго до нас и долго будут после того, как нас не станет…
Омеро зевнул:
— Мне нужно поспать.
Слуга уютно устроился у внутренней стены башни. Вскоре Фабрицио услышал его храп.
Сам он смотрел на небо и ждал.
И наконец комета появилась. В еще не рассеявшемся мраке, на рассвете дня святого Феликса, малоизвестного отшельника из Пистойи, священник благополучно разбудил Омеро. Теперь они вдвоем смотрели на комету, медленно сплетающую между собой созвездия, начиная с Близнецов, и летящую дальше, на юго-восток, на свидание с Девой.
Красота небесного зрелища рассеяла страхи Омеро, они с Фабрицио замерли в восхищении.
Внезапно Фабрицио опустил взгляд на площадь.
— Ты что-нибудь слышишь?
Омеро вгляделся в даль.
— Уже почти утро. Может быть, привратники отворяют ворота.
— Нет. Это что-то другое. Экипаж?
Фабрицио поднял телескоп. В зеркальном свечении, какое бывает перед рассветом, он увидел карету, запряженную четверкой лошадей. Она вырвалась из черного зева улицы, прогрохотала по площади и остановилась. Одна из лошадей вздрагивала и мотала головой.
Лак, покрывавший карету, был таким черным, что блестел, отражая часы на фасаде башни. Фабрицио и Омеро смотрели, как дверь кареты распахнулась, показалась круглая черная шляпа и на землю ступил клирик в черной сутане. Священник стоял прямо, оглядывая площадь. Сама его степенная поза многое говорила об этом человеке — основательный, важный, полный достоинства. Даже издалека Фабрицио мог со сверхъестественной ясностью видеть его лицо. В проницательных глазах мужчины светился мрачный ум.
— Иезуит, — прошептал Фабрицио.
Глава 2
Людям нравилось судачить о чудесах Фабрицио Камбьяти. Они делали жизнь ярче, освещали будни. Рассказывали, что левая рука его сверкала, испуская лучи света, что свечи в церкви загорались сами собой, когда он шел мимо. Утверждали, что однажды, когда падре молился в соборе, Иисус сошел с креста и взял его за руку. Только четверо сильных мужчин смогли ослабить рукопожатие Спасителя. Верующие рассказывали десятки случаев о том, как выздоровели, попросив Камбьяти об исцелении. Город жил в невероятной благодати: исцеления превзошли числом недуги.
Адвокат дьявола объявляет о своей миссии
1758, Кремона
Спустя три четверти века после кончины Фабрицио Камбьяти я, Микеле Аркенти, адвокат дьявола, прибыл в Кремону, чтобы изучить жизнь этого кандидата на причисление к лику святых. Когда черная карета, влекомая четверкой резвых лошадей, мчалась по равнинам Ломбардии под бескрайним небосводом, он был чист, как вода в горном озере, но это не могло длиться бесконечно. Бот она, густая мгла, уже ползет от края горизонта.
Я оставил Рим, змеиное гнездо интриг и заговоров, укрытым тучей. Теперь, похоже, та же самая туча движется следом за мной. В воздухе Вечного города ощущалось нечто, чему я затруднился бы дать определение, — какая-то доселе невиданная, густая злоба. От нее во рту ощущался неотвязный привкус крови. Такая обстановка влияла на мое душевное здоровье. Собственная жизнь показалась пустой, начала прямо-таки смердеть пустотой. Не знаю, когда это началось, но туча, накрывшая Ватикан, накрывала и меня. Казалось, она проникала мне в душу и в сердце, прижимала к земле.