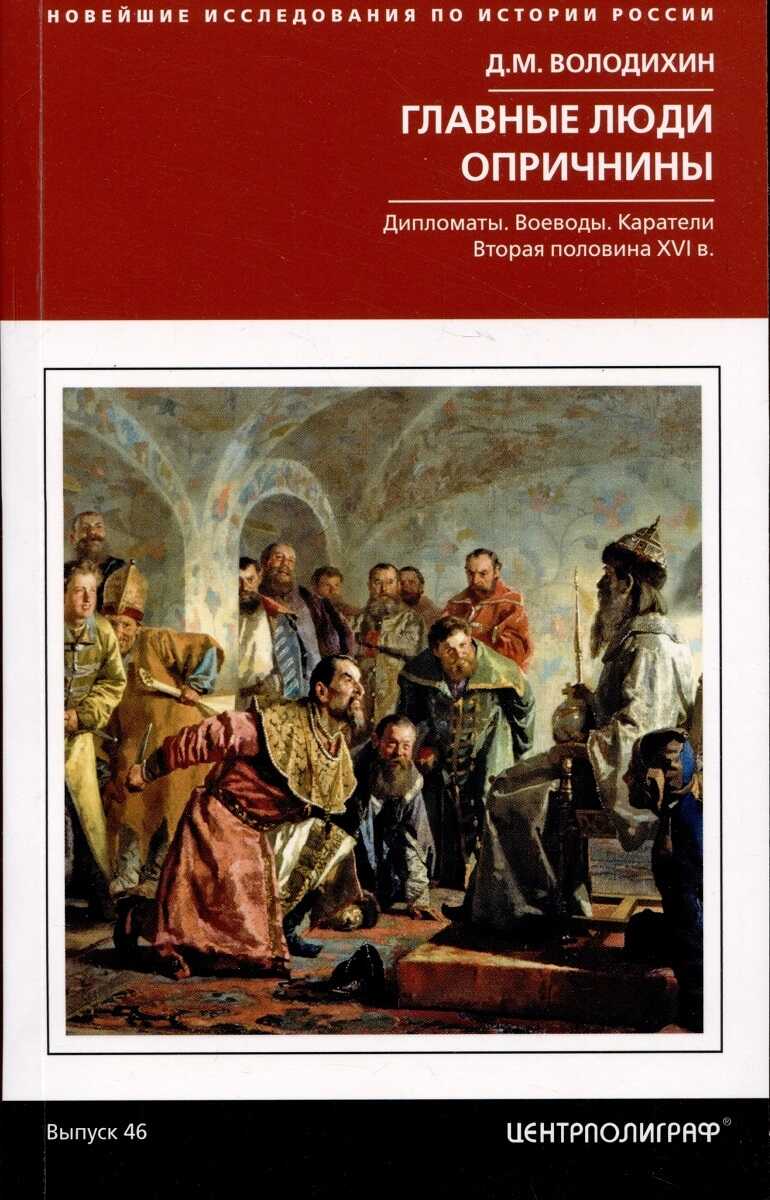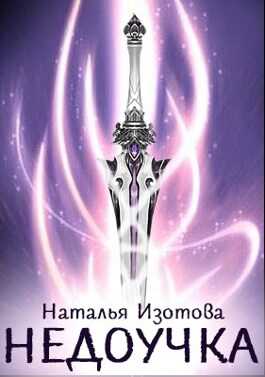мое собственное изобретение…
Дед дорожил фонарем гораздо больше, чем всеми остальными вещами, даже больше, чем очками, которые были нужны ему каждый день. В этом фонаре проявилось его стремление к красоте, к изяществу. И мы, внуки, ясно видели, что дедушка любит фонарь больше за красоту, чем за полезность…
И мы любили дедушку с его фонарем.
*
Однажды дед тяжело заболел. Стояла осенняя ночь. Мы все, сыновья, дочери и внуки, собрались у него в доме. Каждую минуту кто-нибудь подходил к постели посмотреть, как дедушка себя чувствует, а он лежал с открытыми глазами и смотрел куда-то вдаль. Мне казалось, он видит что-то, чего не видит никто из нас… В моем детском сердце смешались страх и любопытство.
Наконец мой отец сказал:
— Надо бы позвать доктора.
Дед, который всегда был невысокого мнения о врачах, слабым голосом возразил:
— Бог — лучший доктор…
Но когда отец, а за ним и все остальные стали настаивать, дед согласился. Пойти за врачом вызвался мой старший брат.
— Темно на улице, — тихо сказал дед. — Возьми мой фонарь. Только осторожнее, не сломай…
В фонаре стоял крошечный огарок. Брат увидел, что ему на дорогу туда и обратно не хватит такой маленькой свечки, но промолчал, не стал затевать разговоров. Зажег свечку, и фонарь засиял изнутри.
Дедушка посмотрел, как горит его фонарь, и грустно улыбнулся…
*
Врач не помог. К утру дед скончался.
Хотели похоронить засветло, но долго не могли договориться с погребальным братством, а поздней осенью день короток, вот и протянули до вечера, пока совсем не стемнело. Казалось, по улице бродит сама смерть в угольно-черных одеждах…
Кто-то из родни, прежде чем похоронная процессия тронулась в путь, подозвал меня и сказал:
— Пойди возьми фонарь…
Напуганный и обрадованный доверием, я побежал обратно, в дедушкин дом. Было страшно подойти к опустевшей кровати, но я набрался храбрости, схватил фонарь, поставил в него сальную свечку, которую приметил на печи, зажег, выскочил на улицу и отдал фонарь отцу.
Процессия двинулась с места. Евреи шли, поминая покойного добрым словом. Фонарь печально горел, освещая носилки, на которых дед лежал, вытянув ноги, и, казалось, он присматривает за своим фонарем из-под черного покрывала.
А еще мне казалось, что деду не жаль расставаться ни с детьми и внуками, ни с покинутым домом — ни с чем, кроме фонаря… Чудесного фонаря, который он так любил, а теперь не может забрать с собой в могилу.
И мое детское сердце видело, как в фонаре догорает вместе с огоньком свечи дедушкина душа.
1914
Дерево
Это была довольно длинная улица, а для маленького местечка даже очень длинная. На ней стояло сорок домов, не считая заброшенной хибары, в которой никто не жил уже лет десять. Почти все обитатели улицы были евреи, кроме единственного гоя, которого от еврея не вдруг отличишь: он говорил по-еврейски, придерживался многих еврейских обычаев, тех, что полезны для здоровья, и на двери его дома от прежних хозяев осталась мезуза. Даже еврейские бедняки, а попросту говоря нищие, заглядывали к нему, обходя местечко, и, когда цены на рынке были не слишком высоки, получали две-три картофелины.
На улице было два колодца, с журавлем и с воротом (тот, что с воротом, не нравился старикам, пока был в новинку, но потом они привыкли), была субботняя ограда[11], были две ямы с песком, в которых играли дети, и по обочинам тянулись глубокие водосточные канавы.
Само собой, улица, заселенная евреями, не утопала в зелени. Ее жители, которые прилежно учили Тору, знали, что когда-то в Земле Израиля все евреи сидели в своих виноградниках или под смоковницами, знали о ливанских кедрах и прочих деревьях, упомянутых в святых книгах… Но здесь, в изгнании, евреи в деревьях не разбирались, не понимали, как они вообще растут. Среди мальчишек из хедера[12] ходили слухи, что можно посеять в землю яблочные семечки и через какое-то время из них вырастет дерево, но дети не очень-то в это верили, а взять и попробовать что-нибудь посадить им было лень.
Но одно дерево на улице все-таки росло, и казалось чудом, что оно тут появилось!
Его хозяин, портной Хаим-Янкл, сам не знал, откуда оно взялось. Отец точно не сажал, потому что, когда Хаим-Янкл был маленьким, оно уже стояло такое же высокое и толстое, как сейчас. «Удел» Хаима-Янкла принадлежал шести поколениям его предков. Но, может, раньше землей владел какой-то христианин, а он-то дерево и посадил?
Так или иначе, на длинной улице стояло дерево, и владел им портной Хаим-Янкл. Оно росло у самого дома, прямо перед окном, выходившим на улицу, и за работой Хаим-Янкл мог любоваться деревом, которое он любил больше всего на свете.
Осенью, когда дул ветер, ветки качались, и дерево печально шумело, будто хотело поведать Хаиму-Янклу какую-то давнюю, грустную историю. И портному тоже становилось грустно, иголка словно пыталась выскользнуть из пальцев, и тогда Хаим-Янкл откладывал ее в сторону, приникал к окну и надтреснутым голосом задумчиво напевал на святом языке:
Шел Иеремия-пророк
На могилы праотцев!..[13]
И казалось, в доме слышны тихие шаги мертвых…
А летом дерево было Хаиму-Янклу еще милее. Работы становилось меньше, времени фантазировать — больше, и он часто лежал в тени густой, раскидистой кроны. Тихо шелестела листва, птица осторожно садилась на ветку, чирикала, а Хаим-Янкл закрывал глаза и думал о чем-то куда более высоком, чем ножницы и утюг.
По субботам, в жару, соседи приходили отдохнуть под деревом после чолнта[14].
Хаиму-Янклу как хозяину они выказывали глубокое почтение. Иногда приходил учитель Талмуда реб Тейвья, высокий, худой человек с тихим, спокойным голосом и впалыми щеками. Хаим-Янкл очень его уважал.
— Мы немного отдохнем под вашим деревом, реб Хаим-Янкев, — чуть слышно, не глядя в лицо Хаиму-Янклу, говорит Тейвья и с усталой улыбкой вытягивается в тени.
— Сделайте одолжение, реб Тейвья! — почти выкрикивает Хаим-Янкл. — Сделайте одолжение! Отдыхайте на здоровье!
— «Ки ѓоодом эйц ѓасодэ»[15], — говорит Тейвья, настраиваясь на нужный лад. — Дерево, реб Хаим-Янкев, подобно человеку.
Реб Хаим-Янкл поднимает голову, рассматривает ветки и ствол, пытаясь найти между деревом и человеком какое-нибудь сходство, не находит, но все равно отвечает:
— Конечно, реб Тейвья, как же иначе?
— Но дерево живет дольше, чем человек! — сам себе возражает реб Тейвья и вдруг разражается надсадным кашлем.
Кашляет, не может остановиться, и Хаим-Янкл будто слышит в его кашле слова: «Скоро реб