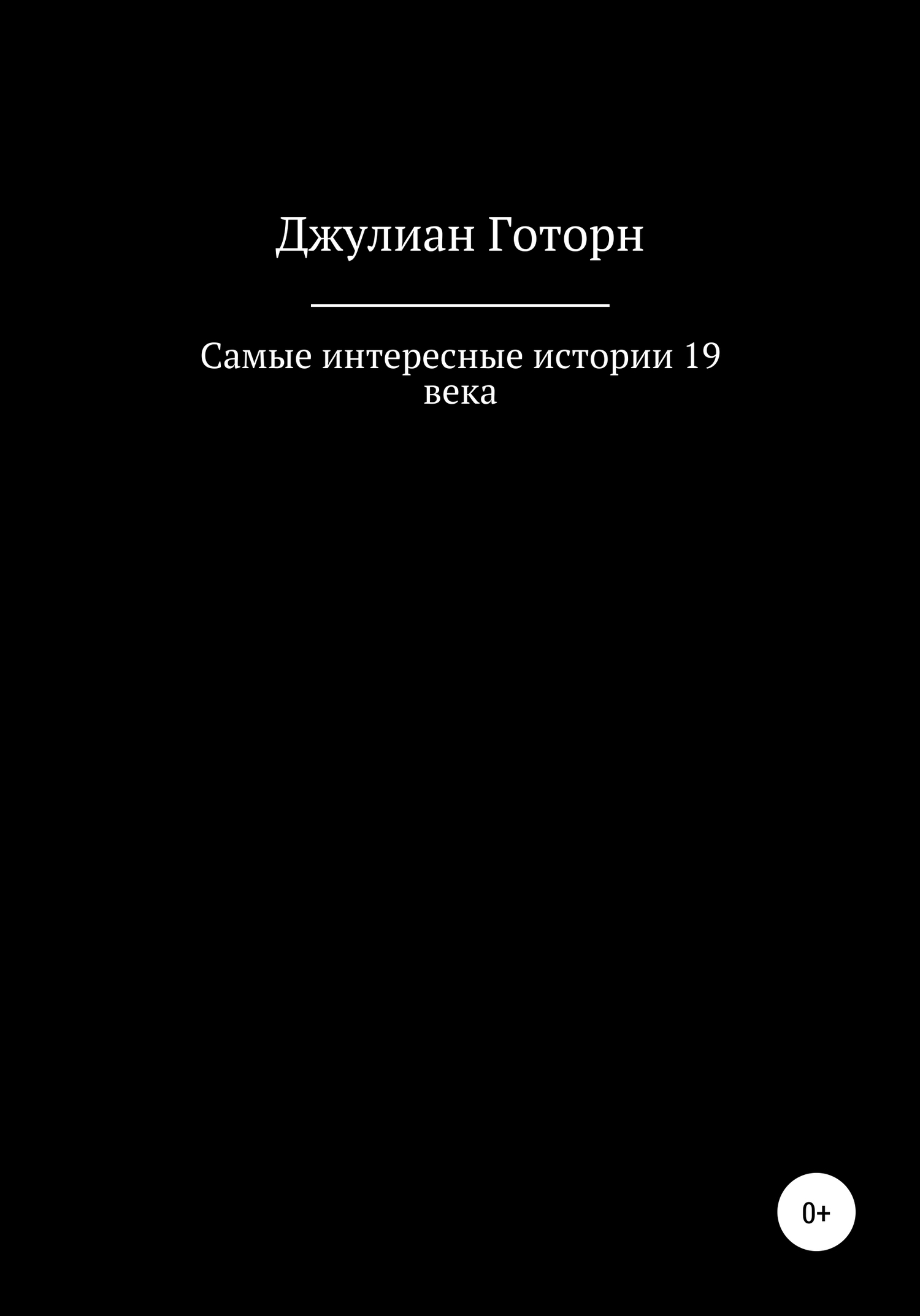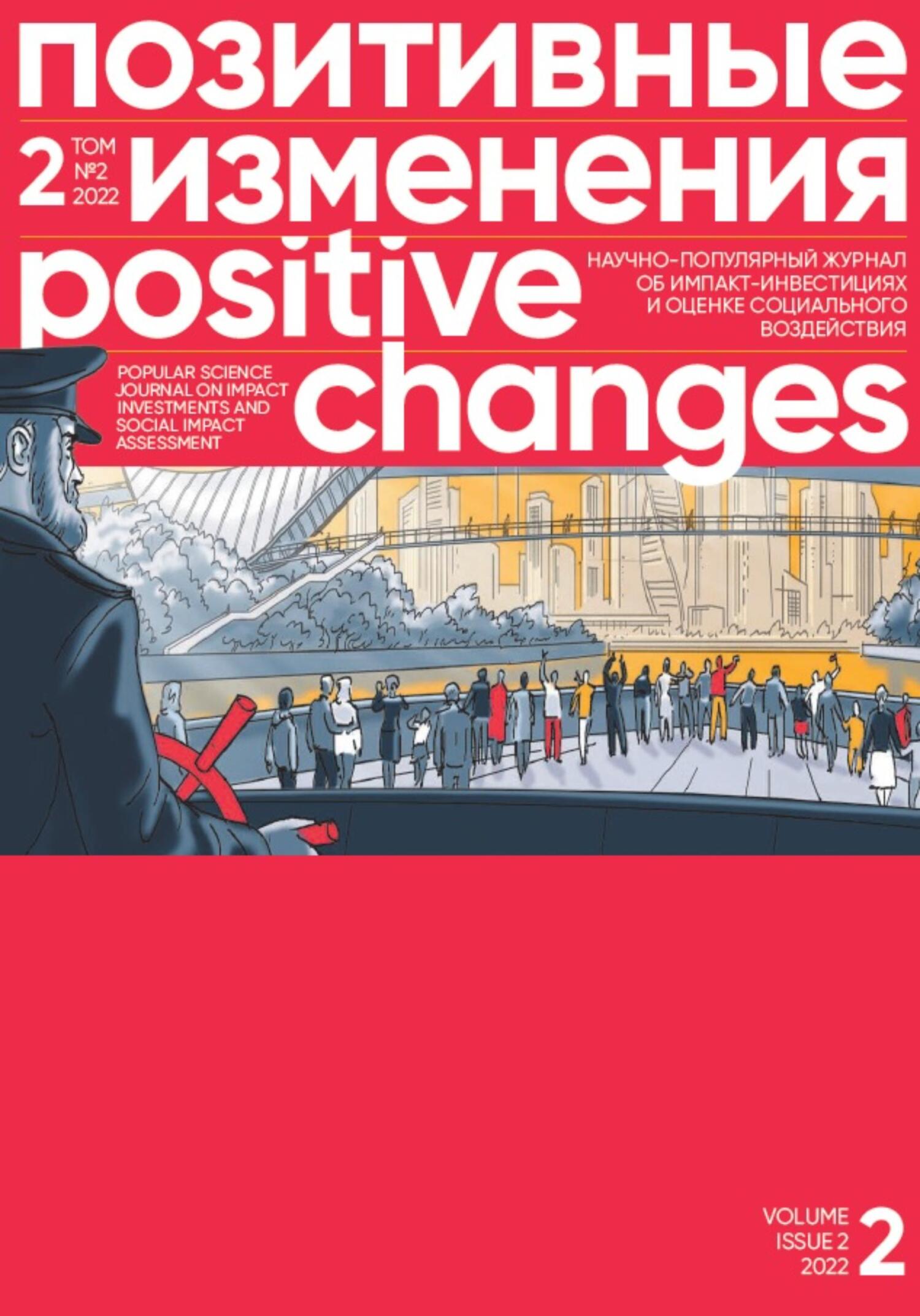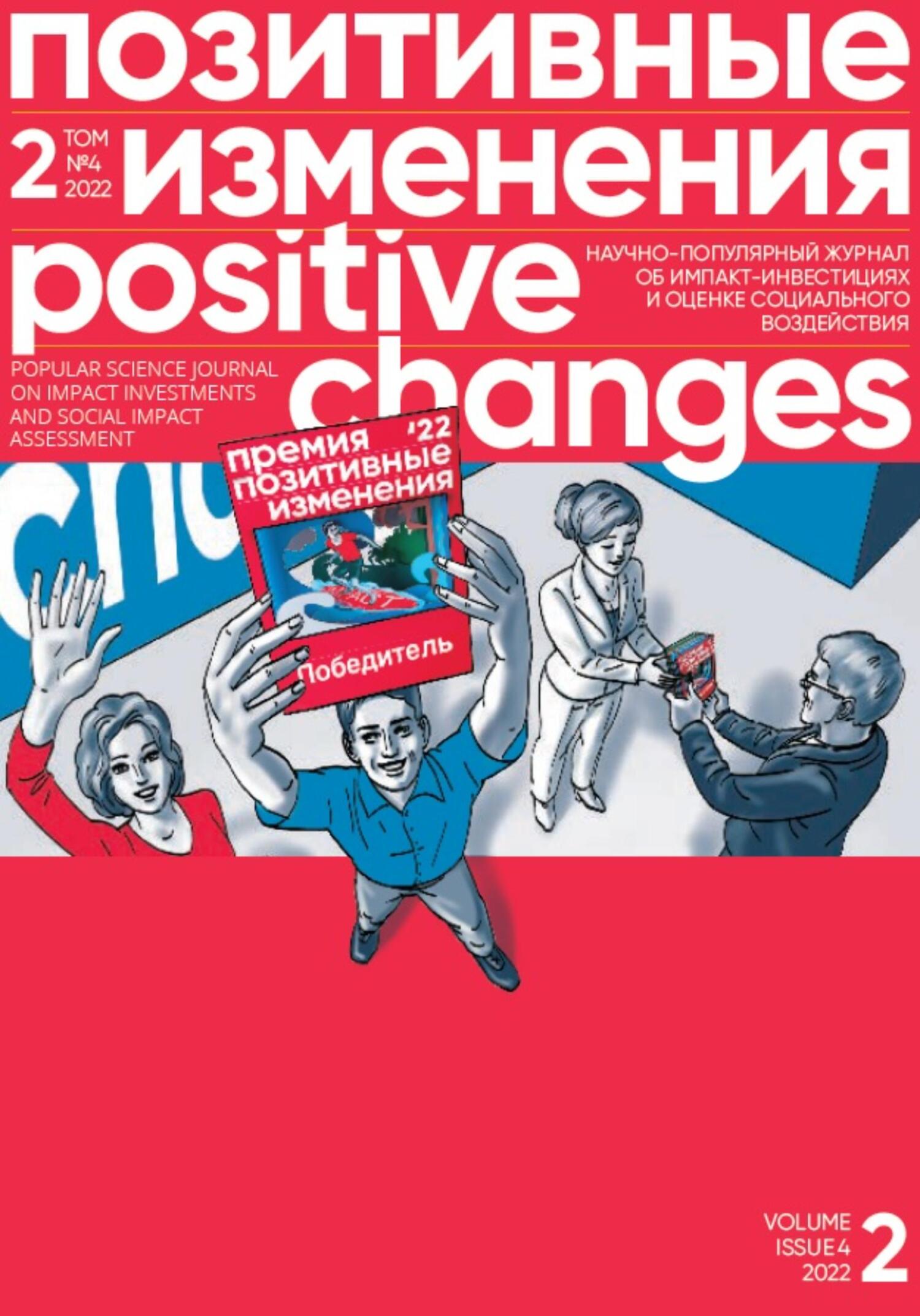в постоянном влечении его глаз к волнующемуся солнечному свету, который пробивался сквозь густоту ветвей в старинную, мрачную комнату. Это было видно по тому, как он смотрел на кружку с розами, запах которых вдыхал с наслаждением, свойственным физической организации, до того чувствительной, что духовная часть человека как бы распускается в ней. Это обнаруживалось в бессознательной улыбке, с какой он смотрел на Фиби, свежий, девственный образ которой был слиянием солнечного сияния с цветами или же сущностью того и другого в более прекрасном, более привлекательном проявлении. Не менее была очевидна эта любовь к прекрасному, эта жажда красоты и в инстинктивной осторожности, с которой уже и теперь глаза его отвращались от хозяйки и скорее блуждали по сторонам, нежели возвращались назад. Виноват в этом был не Клиффорд, виновата была несчастная судьба Гефсибы. Как мог он – при этой желтизне ее лица, при этой жалкой, печальной мине, при этом безобразии страшного тюрбана, украшавшего ее голову, и при этих нахмуренных бровях – находить удовольствие в том, чтобы смотреть на нее? Но неужели он не выразил никакой любви к ней за столько нежности, которую она расточала ему молчаливо? Да, никакой. Такие натуры, как у Клиффорда, чужды всех в этом роде ощущений. Они всегда бывают эгоистичны в своей сущности, и напрасно от них требовать перерождения. Бедная Гефсиба постигала это или, по крайней мере, действовала инстинктивно. Клиффорд был так долго удален от всего, что манит сердце, и она радовалась – радовалась, по крайней мере, в настоящую минуту, хотя с тайным намерением поплакать после в своей комнате, – что у него перед глазами более привлекательные предметы, нежели ее старое, некрасивое лицо. Оно никогда не было прелестно, а если бы и было, то червь ее горести о нем давно бы уже разрушил его прелесть.
Гость оперся на спинку своего стула. В его лице выражалось как бы чувствуемое во сне удовольствие вместе с каким-то усилием и беспокойством. Он старался уразуметь яснее окружающие его предметы или, может быть боясь, чтоб это был не сон или игра воображения, с усилием удерживал прекрасное мгновение перед глазами души, вынуждая его к еще большему блеску и продолжительности.
– Прелесть! Восхитительно! – говорил он, не обращаясь ни к кому. – Неужели это останется? Какой живительный воздух льется в это окно! Открытое окно! Как хороша эта игра солнца! А цветы как пахнут! Какое веселое, какое цветущее лицо у этой молодой девушки! Это – цветок, окропленный росою, и солнечные лучи на росе! Ах, все это, может быть, сон!.. Сон! Сон! Но он совершенно скрыл четыре каменные стены!
Тут его лицо омрачилось, как будто на него пала тень пещеры или тюрьмы. В его выражении было теперь не больше света, чем могло бы проникнуть сквозь железную решетку темницы, да и того становилось все меньше и меньше, как будто сам он с каждой минутой глубже и глубже погружался в пропасть. Фиби, одаренная живостью и деятельностью характера, при которой она редко могла удерживать себя долго, чтоб не принять участия в том, что должно идти вперед, почувствовала теперь сильное желание поговорить с незнакомцем.
– Вот новый сорт роз, который я нашла в саду сегодня утром, – сказала она, выбирая из букета небольшой красный розан. – В этом году их будет пять или шесть на кусте. Это самый лучший розан. А как он пахнет! Как ни одна роза! Невозможно забыть этот запах!
– Ах! Покажите мне! Дайте мне! – вскричал гость, быстро схватив цветок, который своим запахом, как волшебной силой, пробудил в нем много других воспоминаний, соединенных с этим ощущением. – Благодарю вас! Он доставляет мне большое удовольствие. Я помню, как я восхищался этим цветком… давно уже, я думаю, очень давно! Или это было только вчера? Он заставляет меня чувствовать себя снова молодым! Неужели я снова молодой? Или воспоминание это необыкновенно во мне ясно, или сознание чрезвычайно темно! Но как добра эта молодая девушка! Благодарю вас! Благодарю вас!
Благодетельное возбуждение, произведенное маленькой красной розой, предоставило Клиффорду самый светлый момент, каким только он наслаждался за завтраком. Этот момент мог бы продлиться больше, если б его глаза случайно не остановились на лице старого пуританина, который смотрел на сцену из своих потемневших рам и с матового полотна, как дух, и притом самый злой и угрюмый дух. Гость сделал нетерпеливое движение рукой и обратился к Гефсибе таким тоном, в котором ясно высказывалась своенравная раздражительность человека, за которым все ухаживают в семействе.
– Гефсиба! Гефсиба! – кричал он довольно громко и выразительно. – Почему ты оставляешь этот ненавистный портрет на стене? Да, да! Это именно в твоем вкусе! Я говорил тебе тысячу раз, что он злой гений нашего дома! И мой злой гений в особенности! Сними его тотчас!
– Милый Клиффорд, – сказала печально Гефсиба, – вы знаете, что я не могу этого сделать.
– Если так, – продолжал он говорить все еще с некоторой энергией, – то прошу тебя, закрой его хоть красной занавесью, длинною, чтоб висела складками, с золотыми краями и кистями. Я не могу терпеть его! Пускай он не смотрит мне в глаза!
– Хорошо, милый Клиффорд, я закрою портрет, – сказала Гефсиба успокаивающим голосом. – Красная занавесь в сундуке под лестницей немножко полиняла и попортилась от моли, но мы с Фиби чудесно ее исправим.
– Сегодня же, не забудь! – сказал он и потом прибавил тихим, обращенным к себе голосом: – И зачем нам жить в этом несчастном доме? Почему не переселиться в Южную Францию? в Италию? в Париж, Неаполь, Венецию, Рим? Гефсиба скажет, что у нас нет средств. Какая глупая мысль!
Он засмеялся и бросил на Гефсибу взгляд, которым хотел выразить тонкий сарказм.
Но испытанное им в течение такого короткого времени волнение разных чувств, как ни слабо они высказывались, очевидно, его изнурило. Он, вероятно, привык к печальному однообразию жизни, которая не столько протекала ручьем – и то очень ленивым, – сколько скапливалась в лужу вокруг его ног. Покрывало усыпления опустилось на его лицо и произвело свое действие на его от природы нежные и изящные черты, подобное тому, какое густая мгла, не проникнутая ни одним солнечным лучом, производит на выразительность пейзажа. Они как будто сделались крупнее и даже грубее. Если до сих пор в этом человеке поражала наблюдателя интересная наружность или красота – пусть даже разрушенная красота, – то теперь он мог бы усомниться в собственном чувстве и приписывать только игре воображения некоторую грацию, оживлявшую это неподвижное лицо, и какой-то чудный блеск, игравший в этих мутных глазах.