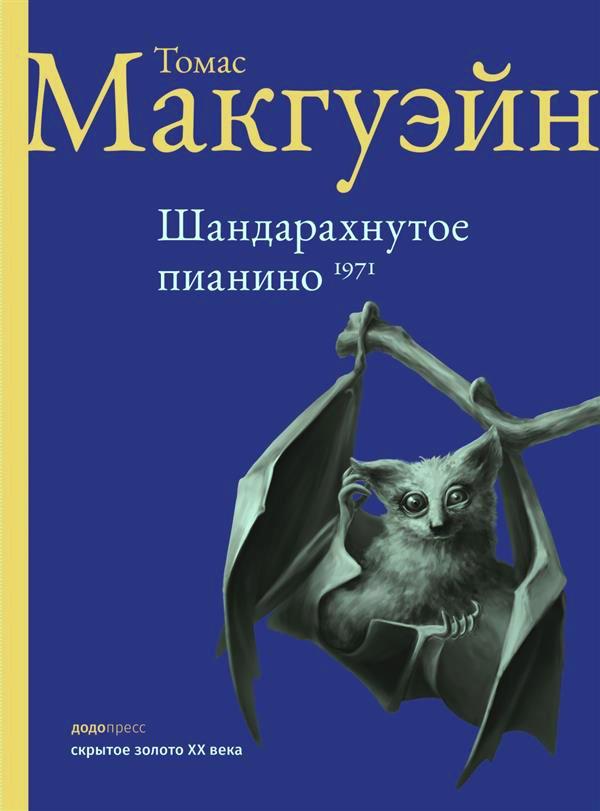прием через полчаса – речь толкать!..
…Я увидела эту речь, шелковый свиток с девятью печатями, на фантастических размеров мраморном столе. И посол отразился в столешнице – черный и блестящий от жары и волнения, в пиджаке переливчатом, точно мушиное брюхо. И галстук при нем, тоже муаровый, только чуть позеленее. Увидев меня, посол бросился навстречу и с благоговением и опаской, словно ожидая, что я сейчас сделаю магический пасс над ядовитым гадом, протянул мне пеструю ленту.
Даже не поздоровался − тоже мне, дипломат.
Галстук был укрощен на толстой шее через минуту – узлом, разумеется, «виндзорским».
Из ворот посольства я вышла с красным бумажным пакетом, в который из своей вазы с фруктами посол положил… Что вам, мадемуазель?.. Банан, манго, о папайя?
– О папайя, – с достоинством ответила мадемуазель.
Пакет хрустнул, принимая в себя килограмм экзотики.
– Вуаля, – поклонился посол. – Спасибо большой.
***
Папайя настроила меня на лирический лад. Закат маячил над Арбатом точно далекий транспарант − я свернула из одного переулочка в другой, поглуше, благо знала их все наизусть, и стала пробираться дворами к станции метро «Смоленская». Прохожие отражались во мне тем же набором примет: беззаботные, безработные свистуны в кроссовках на босу ногу.
– Девушка, а девушка, – крикнул мне один такой, переходя на мою сторону улицы.
Он едва успел затормозить, когда я резко остановилась, и шумно вздохнул − похоже, дальше не знал, что сказать.
И так я впервые увидела, как Бородин улыбается.
Улыбка поразительно правильная, яркая, ровная, – безупречная улыбка, разве что, как ни странно, чуть глуповатая в своей правильности, какая-то лопоухая… Уши, впрочем, были аккуратные, ровные, даже чересчур маленькие для такой крупной лобастой головы.
– Не знаете, как пройти в библиотеку? – подсказала я.
Он засмеялся, перекинул рюкзак на другое плечо и попросил мой номер телефона. Пальцы у него чуть дрожали, когда он расписывал ручку на скользком обороте блокнота, а на следующий день – была суббота – он позвонил и пригласил меня в театр. В самый большой, – ответил он на мой логичный вопрос, – какая-то «Сильфида»…
Сильфида была хороша, и кавалер ее, в зеленых штанишках, тоже левитировал в нужный момент весьма грациозно, но еще занимательней были рассказы Леши Бородина о теннисных кортах на Воробьевых горах и некоем абонементе, который ему достался там по линии аспирантуры – бывшей аспирантуры, уклончиво заметил Бородин.
В антракте я приняла с подноса официанта стакан лимонада, и мы выпили за физкультуру и ее пользу для организма.
– В здоровом теле, значит… – многозначительно сказал Бородин и заел эти слова сервелатинкой.
И в следующую субботу мы отправились прямиком навстречу Воробьевым кортам, то есть, горам.
Глазам моим открылась удивительная картина. Солнце вместе с десятком ярко-зеленых мячей вовсю лупило по серой бетонной стене и каждый мяч послушно возвращался к своей ракетке – каждый, кроме, разумеется, моего.
Я была как-то одета. Душная футболка. Белая юбка. Нелепейшая, в леопардовых пятнах, заколка, которую хватило на несколько минут, чтобы задержать любопытные, лезущие в глаза, волосы. В руках нечто раритетное, деревянное – мягкие струны и замшевая рукоятка когда-то бордового цвета – в общем, первая, невозможная, дорогая как память, ракетка Бородина, которой он играл в детстве в Германии. Единственной вменяемой частью моего наряда были кроссовки, которые я накануне купила на Арбате: темно-шоколадной масти, замшевые, но с претензией на нубук.
«Нубук, нубук», – сказал теннисный мячик, отскакивая в двенадцатый раз от стенки в никуда.
– Нубук ну букну букну, – сказали друг другу рядом два чернокожих студента.
Я бросила ракетку на землю.
– Ну, ты че? – заорал Бородин.
И началось…
***
…Теннис заслонил все, даже школьные и университетские экзамены − мне было некогда волноваться о них, как-то сдались сами собой; я торопилась на корт, пластырь на отбитой ладони, сладкая боль в плечах. Мучительные воскресные вечера, а потом и будни – стена, стена, стена. Разговоры с обитателями корта – новички-дошкольники, мамаши почти моего возраста, и я, любитель-переросток. Пустота, с какой смотрит на тебя опытный игрок, двигаясь скользящей походкой по направлению к прохладному, щедро политому из шланга свежей водой, недосягаемому корту.
Однако вскоре состоялось мое знакомство и с этой территорией. Пытка тянулась часов десять кряду – хотя Бородин клялся, что как-то там хитро забронировал сначала полчасика и потом еще полчасика без линии аспирантуры. Впрочем, Бородин там был уже совсем не Бородин, а зооморфное, многолапое существо, которое скакало по кирпично-рыжей глине, рычало на непереводимой смеси русских и английских слов правила игры, основы основ – в том числе, например, что полагается говорить дебильное «спасибо», когда пытка окончена.
Слезы в женской раздевалке, слезы у прохожих на виду, топот Бородина, нагоняющего меня у входа в метро – вот не помню, ревела ли я когда-нибудь так часто и легко, как тогда?..
Ссоры по никакому поводу (слушай, Леш, я не могу больше, урок окончен – и он смотрит на меня, как баран; и все, все идиоты поголовно: я, учитель мой, и толстый мальчик с плешивым тренером, и охранник кортов… и только одно существо обладает каким-то своим, сверхъестественным, паучьим мозгом – это она, эта страшная чужая ракетка в моей руке).
Конец Великой стены.
Внезапно, без всяких почему, просто переход на другой уровень − и все.
Перепечатыванием депутатских писем и конспектов (акула пера и капитализма Лариса, которая уже протоптала дорожку в «Думский вестник», скинула мне лишнее, поскольку «навешали рабо-о-оты, не могу прям уже…» – протянула Лариса, напудрив себе носик в туалетной комнате журфака), я заработала на свою первую «Wilson», которую нашла в спорттоварах на проспекте Мира – чудную, смирную, легкую, как бабочкино крыло. Теннисные корты распахнулись сами собой, вполне легально, на них оказалась возможна игра с другими поджарыми оранжево-загорелыми студентами, из-за чего Бородин устроил мне скандал. Мы разругались на Патриарших прудах, я с наслаждением протянула ему “дорогую как память” и ушла в сторону Малой Бронной, не оглядываясь. «Сама прибежишь», – раздалось мне вдогонку с тургеневской кованой скамьи, так что две дамы с собачками (все четыре – кудрявые пергидрольные лахудры ) с любопытством оглянулись на Бородина и засеменили дальше. Было ясно, что продолжения не будет, что ничего уже нет, но… Он возник с какими-то дурацкими ромашками возле подъезда «Just now», как раз, когда я выходила оттуда после «отмечалова» – Ларисиного, наверное?
– Анька, – сказал он, притянул меня к себе и потерял дар речи, что было для Бородина несколько странно. И, в приступе моей великой жалости и такого же Лешиного молчания, мы помирились.
***
В конце