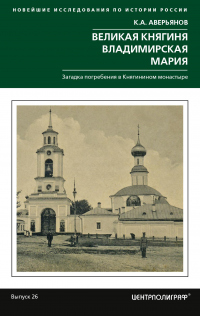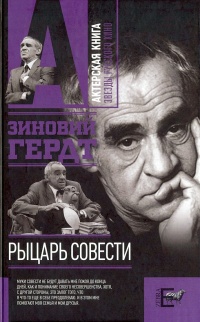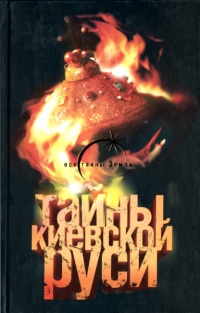Мне хотелось вернуться в свою комнату в кампусе Колумбийского.
Мне хотелось сесть в поезд.
Мне хотелось вылезти из пальто.
Мне хотелось выучить последовательность периодической таблицы.
Мэйв могла бы избавить меня от всего этого, потрудись она приехать в Нью-Йорк. После того как она отследила доставку каких-то бесчисленных тонн овощей в продуктовые магазины к празднику, офис Оттерсона закрылся до понедельника. Мой сосед по комнате уехал на День благодарения к родителям в Гринвич, и Мэйв могла бы занять его постель; мы бы поели китайской еды, может, сходили бы на спектакль. Но Мэйв приезжала в Нью-Йорк, только если того требовали обстоятельства — как в тот раз, когда на первом курсе колледжа у меня лопнул аппендикс. На скорой, в сопровождении дежурного по этажу, меня отвезли в университетский медцентр. Когда я очнулся после операции, в кресле, придвинутом к кровати, положив голову на матрас возле моей руки, спала Мэйв. Темные волны ее волос растеклись по мне как второе покрывало. Не помню, чтобы я ей звонил, — должно быть, это сделал кто-то другой. В конце концов, она была контактным лицом для университета, моим ближайшим родственником. Не отойдя до конца от анестезии, глядя на нее спящую, я думал: Мэйв в Нью-Йорке. Мэйв не любит бывать в Нью-Йорке. Это было как-то связано с тем, что она обожала Барнард, — и всеми ее упущенными возможностями. Нью-Йорк был физическим воплощением ее стыда за то, в чем не было и толики ее вины; ну, или, по крайней мере, так мне тогда казалось. Я закрыл глаза, а когда снова очнулся, она сидела рядом все в том же кресле и держала меня за руку.
— С возвращением, — сказала она и улыбнулась. — Как себя чувствуешь?
Лишь годы спустя я осознал, какой тогда подвергся опасности. Но в то время операция казалась мне чем-то средним между неприятностью и конфузом. Я хотел было как-то отшутиться, но она смотрела на меня с такой теплотой, что я не решился. «Нормально», — сказал я. Губы слипались, во рту было сухо.
— Запомни, — сказала она чуть слышно. — Сперва я, потом ты. Тебе ясно?
Я скривил рот в обдолбанной улыбке, но она покачала головой.
— Я первая.
На табло беспорядочно защелкали буквы и цифры, пока не получилась надпись: ГАРРИСБЕРГ 16:05 ПЛАТФОРМА 15. Баскетбол научил меня легко передвигаться в толпе. Большинство из этих несчастных коров бывали на Пенсильванском вокзале лишь раз в году, и их легко было сбить с толку. В общей суматохе немногие повернулись в нужную сторону. Ко времени, когда они смекнули, куда идти, я уже был в поезде.
Положительный момент: поездка — это больше часа на зубрежку, а чтобы подтянуть хвосты по органической химии, мне было необходимо время. В начале октября мой преподаватель с говорящей фамилией Эйбл[5] вызвал меня к себе в кабинет и сообщил, что я на верном пути к провалу. Шел 1968 год, и Колумбийский сотрясало от студенческих бунтов, маршей и забастовок. Мы были микрокосмом страны в состоянии войны; каждый день мы поднимали зеркало, чтобы показать стране то, что видели мы. Сама мысль о том, что кто-то вообще обратит внимание на первокурсника, не успевающего по химии, казалась абсурдной, а вот поди ж ты. Я уже пропустил несколько занятий, перед доктором Эйблом лежала стопка моих контрольных: чтобы понять, что у меня проблемы, ясновидения не требовалось. Кабинет доктора Эйбла на третьем этаже был под завязку забит книгами, а еще там стояла небольшая классная доска с начертанным на ней каким-то совершенно непонятным синтезом, который, как я опасался, он попросит меня объяснить.
— Профилирующая специальность у вас — медицина, — начал он, просматривая свои записи. — Верно?
Я ответил, что так и есть. «Семестр только начался. Я все подтяну».
Он постучал карандашом по стопке моих провальных работ. «Если собираетесь стать врачом, к химии следует относиться повнимательнее. Не сдадите, никто вас дальше не пропустит. Поэтому лучше поговорить сейчас. Потянем еще — вы завалитесь».
Я кивнул, чувствуя, как боль скручивает нижнюю часть кишечника. Одна из причин, по которой я всегда хорошо учился и получал высокие отметки в школе, заключалась как раз в моем желании избежать подобных разговоров.
Доктор Эйбл сказал, что преподает химию достаточно давно и перевидал множество мальчишек вроде меня, — и моя проблема не в недостатке способностей, а в том, что я не уделяю предмету должного времени. Он, разумеется, был прав — с самого начала семестра я был рассеян. Но также и не прав, потому что вряд ли он видел много таких, как я. Он был худым, с неряшливо подстриженной шапкой каштановых волос. Я даже примерно не мог бы сказать, сколько ему лет, но мне было очевидно, что его пиджак и галстук принадлежали жизни, мне доселе неизвестной.
— В химии все прекрасным образом взаимосвязано, — сказал он. — Каждый новый кирпичик укладывается поверх предыдущего. Если вы не поняли первую главу, переходить ко второй нет смысла. Первая глава — ключ ко второй, вместе они откроют вам третью. Мы сейчас изучаем четвертую. Невозможно наброситься на четвертую главу и внезапно понять все, что ей предшествовало. У вас нет ключей к пониманию.
Я сказал, что вполне с ним согласен.
Доктор Эйбл велел мне вернуться к началу учебника и проштудировать все, начиная с первой главы: ответить на каждый вопрос в конце, выбросить свои ответы из головы, а на следующее утро ответить по новой. Лишь ответив правильно на все вопросы дважды, я могу переходить к следующей главе.
Мне хотелось спросить, известно ли ему, что некоторые студенты ночуют на полу в приемной ректора. Вместо этого я сказал: «У меня есть и другие занятия», — прозвучало так, будто мы обсуждаем, на какую часть моего свободного времени он может рассчитывать. Других студентов он никогда не просил отвечать на все вопросы в конце главы, а уж тем более дважды.
Он посмотрел на меня долгим спокойным взглядом: «Тогда, возможно, в том, что касается химии, это не ваш год».
Я не мог завалить органическую химию — как и ни один из других предметов. Мой призывной номер был 17, и без академической отсрочки куковать мне в окопе под Кхешанью. Но то, что сделала бы со мной сестра, если бы моя успеваемость снизилась, намного превзошло бы все, на что было способно правительство. Это, кстати, не шутка. Все равно что заснуть за рулем посреди ночи в снежный буран на автомагистрали в Нью-Джерси. Доктор Эйбл встряхнул меня как раз вовремя, чтобы я увидел несущиеся прямо на меня фары и попытался за долю секунды вывернуть машину на свою полосу. Расстояние от меня до небытия было равно снежинке.
В поезде я занял место у прохода — по пути от Манхэттена до Филадельфии смотреть было не на что. В обычной ситуации я бы положил сумку на соседнее кресло и попытался придать себе внушительности, но это был канун Дня благодарения, и два кресла никому было не заполучить. Поэтому я открыл учебник и попытался выдать себя за того, кем и являлся: серьезный студент учит химию, поэтому его не удастся вовлечь в разговор о погоде, Дне благодарения или войне. Стадо коров, едущих с Пенсильванского вокзала в Гаррисберг, прошло через турникет и выстроилось в очередь через всю платформу в вагон; каждый, кто входил, бросал сумку на первое попавшееся свободное сиденье. Я пялился в учебник до тех пор, пока одна женщина не дотронулась своими ледяными пальцами до моей шеи. Не до плеча, как сделал бы любой, а до шеи.