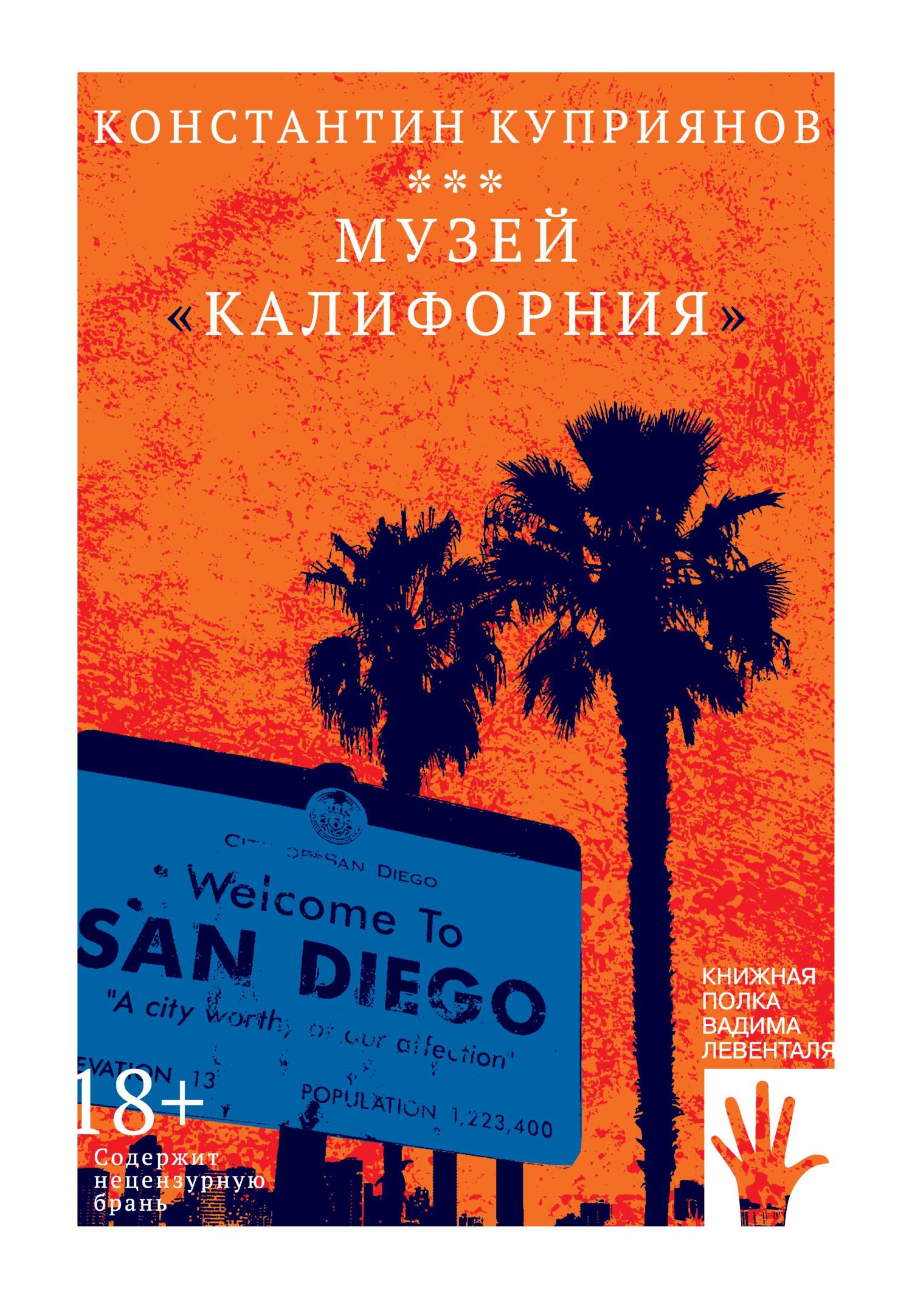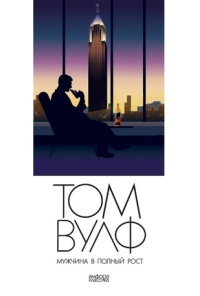которого открывается далекий вид и можно размышлять, глядя на небо. Выкопать извилистый пруд. Джейн вспомнила виденный ею в журнале проект дождевой комнаты в Каирском музее. Она была предназначена для детей, которые, возможно, ни разу в жизни не видели разверзшихся небес и могли изучить здесь более сорока различных видов осадков.
Мир перенасыщен информацией, подумала Джейн. Невозможно не замечать в жизни странных случайностей. Слишком уж много совпадений: дороги похожи на артерии, здания — на пенисы, облака — на картины, война — на охоту, а вода — на мысль. Она задумалась, каково было бы подарить природе зеленый холм на месте, где некогда стояли башни-близнецы. Чтобы морской бриз овевал лица тех, кто придет оплакать погибших, помолиться и поразмышлять. Появление холма на Манхэттене стало бы маленьким чудом, ведь всего каких-то четыреста лет назад на этом острове не было ничего, кроме холмов и лесов. Но для дорог и фундаментов, сетей и подземных систем, транспорта и даже для ходьбы больше подходит плоский рельеф. Горы и холмы вытеснили в море, реки убрали под землю, леса пустили на древесину, птиц и оленей разогнали. Вернуть хотя бы один большой холм — это уже что-то. «Как отнесся бы к этому старина Девитт Клинтон?»[18] — задумалась женщина.
Марина Абрамович привнесла в Нью-Йорк нечто новое. Она превратила себя в скалу в центре города, где сотни лет всё и вся пребывало в движении. Она привезла с собой свою европейскую и личную историю, историю своей семьи, и, как истинный нью-йоркский пионер, подчинила город своей воле. Причем сделала это с помощью искусства.
В аэропорту Джейн купила журнал «Космос» и стала ждать. Она устроилась в самолете, но рейс задержали на два часа. Женщина читала и наблюдала в иллюминатор, как с Атлантики надвигается ночь. Сидевший на соседнем месте молодой человек яростно тыкал в айпад и строчил эсэмэски по телефону, с головой уйдя в собственный мир. Наконец вылет разрешили. Стюардессы убрали ее бокал с шампанским, пустую бутылку из-под воды и обертки от закусок. Самолет начал движение по взлетной полосе, набирая скорость.
Джейн всегда казалось, что эта исступленная борьба с гравитацией бессмысленна и крылатый металлический объект с сотнями людей внутри гигантского вытянутого корпуса ни за что не вознесется в небо. Но чудо, разумеется, произошло. Они поднялись над Манхэттеном, над сетью взмывающих ввысь зданий, где-то внизу расстилалась огромная гавань со статуей Свободы. Насколько хватало взгляда, вдаль простирались огни — свидетельство бурлящей жизни. Самолет сделал круг, свернув сначала на север, потом на запад и наконец на юг. Джейн полетела домой.
Закрыв глаза и на мгновение снова оказавшись в атриуме, женщина спросила себя: если бы она все-таки села перед Абрамович, что бы она увидела или почувствовала? Может, не стоило оставаться всего лишь зрителем? Не упустила ли она возможность совершить что-то судьбоносное, некий акт мужества?
Джейн инстинктивно потянулась к руке Карла, чтобы сжать ее. Женщину охватило острое желание положить голову на плечо сидевшего рядом молодого человека. Хотя бы на миг притвориться, что рядом есть кто-то, кто любит ее.
«Возможно, я смогу вернуться ближе к концу, — подумала она. — Я смогу вернуться и увидеть Марину Абрамович в последний день, когда она встанет со стула. Как чудесно будет увидеть Марину Абрамович встающей со стула после семидесяти пяти дней сидения».
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Дни, когда ты работаешь, — лучшие дни.
ДЖОРДЖИЯ О’КИФФ
21
Левин сидел за кухонным столом уже шестнадцать минут. У него затекла шея. Он проснулся в половине пятого утра, а в пять пятнадцать, не придумав ничего лучше, отыскал в шкафу свои любимые черные спортивные штаны и белую футболку. Без четверти шесть он явился в студию на Лафайет к шестичасовому занятию по пилатесу. Его прошлогодняя преподавательница, как выяснилось, переехала в Аризону, впрочем, новая, Мэдди, была весьма любезна. Она сообщила, что у него перенапряжены мышцы задней поверхности бедра и ягодиц. Почти все его мышцы были перенапряжены и от этого делались еще более дряблыми. После занятия Левину показалось, что мир стал чище, ярче. Ему необходимо поработать над проприоцепцией, но Мэдди как будто была им довольна.
По дороге домой Левин завернул в кафе, где раньше никогда не бывал, позавтракал яичницей-болтуньей и кофе и нашел их весьма вкусными. Вернувшись в квартиру, он отодвинул от обеденного стола почти все стулья, а оставшиеся два поставил друг напротив друга. На один стул сложил несколько подушек с кровати. Этого оказалось недостаточно, пришлось добавить три красные диванные подушки и круглую белую думку из гостевой спальни. После этого Левин достал из шкафа свой черный кашемировый шарф и накинул на подушки.
— Привет, Марина, — произнес он.
Сходство было довольно поверхностное. Левин сел на стул напротив и попытался расслабиться. Он чувствовал себя немного глупо, но ведь никто его не видел. Усмехнулся своей идее соорудить волосы из шарфа, но тут же осекся. Вздохнул и уставился на белое лицо-думку. У него тут же зачесалось под левой лопаткой. Левин мягко повел головой влево и вправо. Почесал бровь, размял плечи, тщательно потерся одной, потом другой лопаткой о спинку стула, вновь расставил скрещенные было ноги и пошевелил пальцами. Затем опять постарался сесть совершенно неподвижно.
Левин попытался внушить себе, что с лица-подушки на него смотрят глаза Марины. Затем перевел взгляд на широкий балкон на крыше, видневшийся за стеклянными дверями. Он мог бы перемыть посуду и сесть за работу в студии. Или отправиться на прогулку, выйти в город. Но ему необходимо было разобраться с этим.
Он начал думать о том, что недавно прочитал в «Таймс» за завтраком. Оказывается, девятнадцатого апреля произошло много значительных событий. Взрыв в Оклахома-сити в тысяча девятьсот девяносто пятом году[19]. Техасская бойня под Уэйко в тысяча девятьсот девяносто третьем[20]. А еще девятнадцатого апреля началась американская революция.
Было много важных дат. День поминовения павших, Четвертое июля, День труда и Хэллоуин, День благодарения. Когда Элис была маленькой, они в течение многих лет снимали один и тот же дом в Мэне, куда перебирались после Дня поминовения. Обычно Левин приезжал лишь на два-три дня, а Лидия с дочерью оставались на несколько недель. Лето ему нравилось проводить в Нью-Йорке. Жаркие тяжелые ночи, липкие вечера с открытыми окнами. Блаженство, даруемое кондиционером, холодным душем и легким бризом с Гудзона. Тишина в квартире. Желанное многодневное одиночество. Потом он начинал скучать по Лидии и Элис. Когда Левин вспоминал