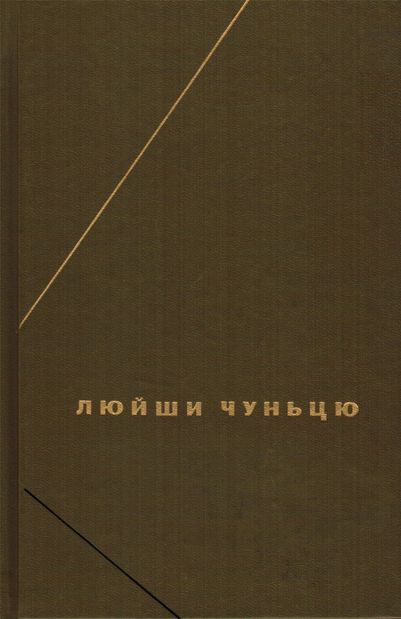по реке, подныривает под мостами и выплывает вновь, неторопливо поворачивается, как мельничное колесо, и по временам скрывается под водой. Встречный лодочник подцепляет его багром и тащит к берегу. Но, прежде чем свезти утопленника в морг, ему дадут полежать здесь, на земле, вдруг он еще очнется. Вокруг уж сгрудилась толпа зевак. Задним не видно, и они безбожно напирают на передних. А на уме у каждого одно: «Уж я-то не стал бы топиться». Кто жалеет юного самоубийцу, кто восхищается им, но следовать его примеру никто не собирается. Ему же, видно, казалось разумным покончить счеты с жизнью, в которой не нашел он ничего, достойного своих высоких устремлений. На вид юнец, семнадцать лет, не больше. В его-то годы умереть! Толпа застыла и глазеет молча. Но поздно. Потихоньку все расходятся… И никто не склонится к несчастному, никто не перевернет распростертое тело, чтобы вылилась наружу вода. Чинные господа в тугих воротничках — никто и пальцем не пошевельнет, из страха прослыть чересчур сердобольным. Один отходит, тоненько насвистывая нечто невнятнотирольское, другой — прищелкивая пальцами, как кастаньетами. В ту пору, с мрачной думой на челе, скакал по берегу реки мой Мальдорор. Увидев тело, он не стал раздумывать. Остановил коня и спрыгнул наземь. Нисколько не гнушаясь, приподнял он юношу и принялся его трясти, пока изо рта не полилась вода. При мысли, что это обмякшее тело возможно оживить, у Мальдорора сильнее забилось сердце, он заработал еще усерднее. Но все напрасно! Да-да, напрасно, верьте слову. Труп остается трупом и бессильно повисает на руках у Мальдорора, как тот его ни теребит. Однако Мальдорор упорен; не зная устали, он трет незнакомцу виски, растирает руки и ноги; целый час, уста в уста, вдувает воздух в его легкие. И наконец, прижав к груди утопленника ладонь, как будто ощущает трепет. Ожил! О, если бы в тот чудный миг кто-нибудь наблюдал за хмурым рыцарем, он увидел бы, как расправились морщины на его лице и, точно по волшебству, помолодел он на десяток лет. Увы, очень скоро морщины соберутся вновь: быть может, завтра, а может, и сегодня, не успеет он удалиться от берега. Ну а пока спасенный юноша открыл еще не вовсе прояснившиеся глаза и бескровной улыбкой поблагодарил спасителя, но шевельнуться он еще не мог — был слишком слаб. Спасти жизнь ближнему — прекрасное деянье! Оно одно способно искупить тьму прегрешений! До той минуты бронзовоустый мой герой был поглощен лишь тем, как вырвать юношу у смерти, теперь он всматривается в его черты и видит, что они ему знакомы. И в самом деле: чуть не усопший белокурый юноша похож на Гольцера, да уж не он ли это? Смотрите, как бросились они на грудь друг другу! И все же мой порфироглазый Мальдорор желает сохранить суровый вид. Не проронив ни слова, он усаживает друга перед собою на коня и пускается вскачь. Ну что же, Гольцер, мнивший себя столь мудрым и рассудительным, теперь ты, верно, знаешь по себе, как трудно в минуту отчаяния сохранять то самое спокойствие, которым ты гордился. Надеюсь, ты не станешь больше так огорчать меня, а я обещаю тебе никогда не покушаться на свою жизнь.
[15] Порою вшивокудрый Мальдорор вдруг замирает и настороженно вглядывается в небесный бирюзовый полог — насмешливое улюлюканье невидимого призрака чудится ему где-то рядом. Он содрогается, он хватается за голову, ибо то глас его совести. Как безумный, бросается он тогда вон из дому и мчится, не разбирая дороги, через морщинистые пашни. Но мутный призрак не теряет его из виду и так же быстро мчится следом. Иногда в грозовую ночь, когда стаи крылатых спрутов, издали напоминающих воронов, парят под облаками, направляя полет к городам, куда они посланы в предупрежденье, дабы люди одумались и исправились, — в такую ночь какой-нибудь угрюмый булыжник, бывает, увидит, две промелькнувшие при вспышке молнии фигуры: беглеца и того, другого, — и, смахнув с каменной вежды слезу невольного участия, воскликнет: «Наверно, кара по заслугам!» Сказав же так, вновь погрузится в мрачное оцепененье, и только с затаенной дрожью станет наблюдать за травлей, за охотою на человека, а также за тем, как чередою вытекают из бездонного влагалища ночи чудовищные сперматозоиды — сгустки кромешной мглы — и поднимаются в грозовой эфир, расправив перепончатые, каку летучей мыши, крылья и застилая ими горизонт, так что даже легионы спрутов меркнут перед этой слепой и безликой лавиной. Меж тем стипл-чейз[29] продолжается, соперники не сдаются, и призрак изрыгает огненные струи и обжигает спину человека, бегущего быстрее лани. Грозный призрак лишь выполняет свой долг, если же путь ему преградит жалость, он, хоть и сморщится брезгливо, но уступит ее мольбам и отпустит человека. Прищелкнув языком в знак того, что погоня окончена, он возвратится в свое логово и не покинет его до нового приказа. Когда душераздирающий, разносящийся по всем уголкам вселенной рев его проникнет в душу человека, тот рад скорее умереть лютой смертью, чем терпеть муки совести. Он пробует зарыться головой поглубже в землю, но эта страусиная уловка не спасет. В один миг, как капля летучего спирта, испарится его земляное убежище, в нору ворвется свет, падут, как стая куликов на заросли лаванды[3], острые стрелы лучей, и бледный человек окажется лицом к лицу с самим собой. Однажды на моих глазах такой несчастный помчался к морю, вскарабкался на утес, исхлестанный гривастыми волнами, и бросился вниз головою в бездну. Наутро тело всплыло, и волны прибили его к берегу. Вдруг, о чудо! — вчерашний утопленник воспрял, оставив отпечаток на песке; отжал промокшие власы и, мрачно потупившись, пошел своей дорогой. Да, совесть строго судит наши слова, дела и даже потаенные мысли; ее не обмануть. Но, поелику предупредить зло часто не в ее силах, она ожесточенно травит человека, как охотник травит лису, наипаче усердствуя ночью. Во мраке ее глаза — ученые по неведенью называют эти светочи метеорами — горят зеленым огнем, она вращает ими, произносит загадочные слова… о, смысл их внятен человеку! И вот он мечется без сна на ложе, со страхом вслушиваясь в зловещее дыханье тьмы. Сам ангел, что бдит у его изголовья, сражен наповал метко пущенным невидимою рукою камнем и, оставив свой пост, бежит на небеса. Но на сей раз я, ниспровергатель добродетелей, явился, чтобы защитить человека, — я, тот самый Мальдорор, тот, кто однажды, в достопамятный для Творца день, низверг небесные анналы, оскверненные гнусной ложью о мнимом его всесилии