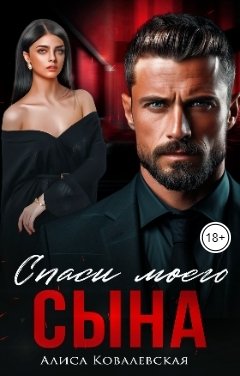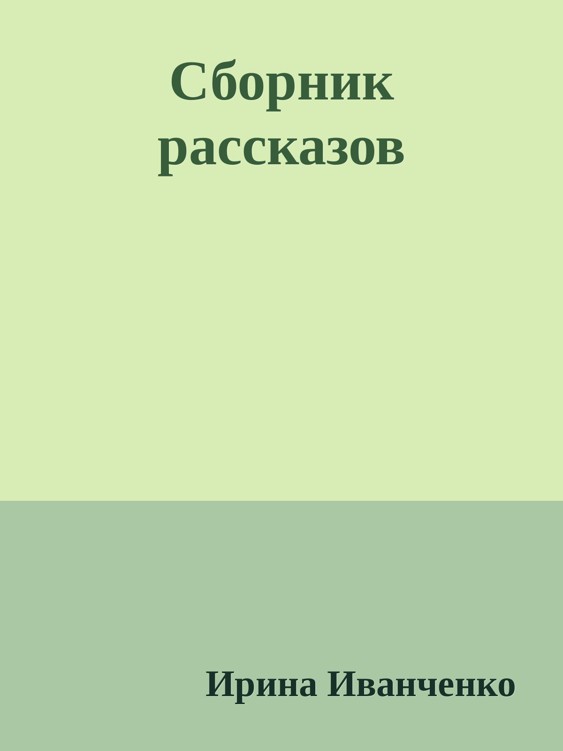мне еще одну пощечину. Я хотела встать, но не смогла, а она воспользовалась моей слабостью, уселась на меня сверху и схватила за волосы; я истерически захохотала, в смысле сначала захохотала, а потом заплакала. Бей меня, сиротка, бей сильнее! И она лупила меня что есть сил, лупила и впивалась мне в руки. Я хохотала и говорила: бей меня, давай, – а она вонзалась в меня ногтями и наслаждалась своей ненавистью, я же позволяла ей наслаждаться. Бей, бей, просила я, пока она не опомнилась и не заметила, что я в истерике и вся мокрая от слез; тогда она убрала с моего – и со своего – лица волосы, вытерла мне слезы, а я все не могла успокоиться и, водя руками в воздухе, просила, чтобы она не останавливалась; тогда она обняла меня, и положила мою голову себе на грудь, и поцеловала в макушку, а я обняла ее крепко-крепко, и пока она гладила меня и целовала, я все просила: ударь меня, ударь меня, ударь меня… Но Нагоре лишь обнимала меня и говорила «ш-ш-ш, ш-ш-ш», как когда укладывала Даниэля, укачивая его и баюкая, чтобы он быстрее уснул, и я тоже ее обнимала, и мне тоже захотелось уснуть, чтобы не думать о том, что она уже выросла и хочет уехать.
Нагоре сидела со мной, пока я не успокоилась, а потом кое-как уложила меня на кровать, подпихнула мне под голову подушку и, закрыв мне глаза, стала гладить меня по щеке, повторяя свои «ш-ш-ш, ш-ш-ш», под которые когда-то засыпал мой Даниэль.
Прежде чем мы вернулись в Мехико, мама Франа опустилась передо мной на колени и стала умолять, чтобы мы остались. Поговори с Франом, убеди его остаться, я помогу тебе с детьми, я не буду мешаться, я буду помогать, убеди Франа не уезжать, – но я говорила нет, хоть мне и хотелось сказать да, а она просила, чтобы я не оставляла ее одну в этом огромном доме, белом и опустевшем, потому что не вынесет одиночества, потому что без дочки… что же ей делать целыми днями без дочки и без внучки, и чтобы я не уезжала, и чтобы поговорила с Франом, но я качала головой, поскольку уезжала не потому, что не хотела остаться, а потому что надеялась, что сама смогу позаботиться о своей семье. Я не знаю, откуда во мне взялась эта надежда и какой социальный дискурс вселил в меня это желание, которое, по правде говоря, никогда не было искренне моим. Кроме того, признаю, я боялась, что его мать станет для меня обузой. Я боялась утратить легкость, держа на руках самый тяжелый груз, который можно представить в жизни.
Мы не надеялись, что дело Даниэля раскроют. Просвета не было, все наши вопросы оставались без ответа. Тьма вопросов и полное отсутствие ответов; отсутствие не только пропавших – отсутствие вердиктов, приговоров, решений суда – змея заглатывала собственный хвост. Несколько раз Фран чуть не вцепился в глотку очередному чиновнику, который не посчитал нужным посвятить нас в детали расследования. Расследования, которого нет. Почему мы не переставали ходить по кабинетам, на что рассчитывали? Потому что Фран всегда считал, что лучше постучать в дверь, чем сидеть, сложа руки.
Когда Хави посадили, его родители не стали оспаривать решение суда, а просто смирились с вынесенным приговором. Прозвучало предложение, что неплохо бы им время от времени видеться с Нагоре, но сильно они не настаивали. В конце концов, у них на груди сверкала медаль за особые страдания. Они стали тенями, ненавязчивыми, но вездесущими. Еще одна пара блуждающих призраков. Может, поэтому Нагоре так хотелось пролить свет и заглянуть им в глаза – может, она хотела дать им умереть спокойно, не знаю, или сказать, что они не в ответе за сына-убийцу. Нагоре, наша добрая Нагоре, упорно верила в светлое будущее и не желала оставаться в кругу людей, предпочитающих мрак. Я всегда ее уважала.
Владимир оставил мне телефон знакомого из генеральной прокуратуры. Тот, в свою очередь, дал нам номер организации, помогающей матерям пропавших детей.
Я сходила на первую встречу. У всех толстые папки под мышками, заношенная до дыр обувь на ногах, рюкзаки за спинами – кто знает, где придется спать сегодня. Там был целый батальон женщин, и все – с боевым настроем. Они организовались в отряды и искали детей по всей стране. Мне рассказали про одну маму, которая нашла сына спустя восемь лет поисков, – оказалось, он все это время сидел в иммиграционной тюрьме. Они подбадривали друг друга и носили на шее фотографии детей, как носят иконку или крестик. Я хотела провалиться сквозь землю. А с твоим сыном что случилось, спросила одна из них, и я, понимая, как на фоне их душещипательных историй будет звучать то, что мой сын пропал из-за тупости и халатности своей матери, пробормотала, что не хочу отвечать. Ничего, потом расскажешь, сказали они, а я кивнула, но так ничего и не рассказала, а когда мы собрались в актовом зале старинного здания, и вовсе забилась на задний ряд, чтобы меня не было ни слышно, ни видно. При первой же возможности я сбежала. Что я могла им рассказать? Что я проворонила сына-аутиста, потому что думала о любовнике? Я почувствовала себя ничтожеством. И решила больше не приходить.
Мы сели в самолет, и родители Франа сначала превратились в две крошечные фигурки, а потом и вовсе исчезли, стоило нам взлететь и подняться выше зданий и облаков. Неужели и Даниэль видел меня такой – ничтожно маленькой фигуркой, ради которой он не смог даже обернуться и сказать «прощай»?
Все говорили о войне, а о нас, безутешных матерях, не говорил никто. Владимир сказал, что мы как та плакальщица из легенды[12]: нас не видно, но вопль наш оглушителен. Тем не менее о нас никто не говорил. Все говорили о крови, об убийствах, о жертвах, а о нас – никто. Наши дети были вдвойне пропавшими: сначала они пропадали физически, потом о них забывало общество. Я перестала ходить в прокуратуру, не посещала собраний, не участвовала в маршах справедливости, поскольку не хотела отдавать образ Даниэля на съедение оппортунистам, которые из чего угодно сделают аргумент в пользу той или иной политической партии. Я хотела сохранить память о нем незапятнанной. Даниэль был не такой, как все: может быть, другие дети заслужили, чтобы их похитили, может быть, каждая потерявшая ребенка мать, включая меня, заслуживает наказания. Может даже, мы изобрели плач, чтобы не говорить всей правды, ибо кто же станет подозревать в неискренности рыдающую мать? Никто: от нее можно отвернуться, на нее можно