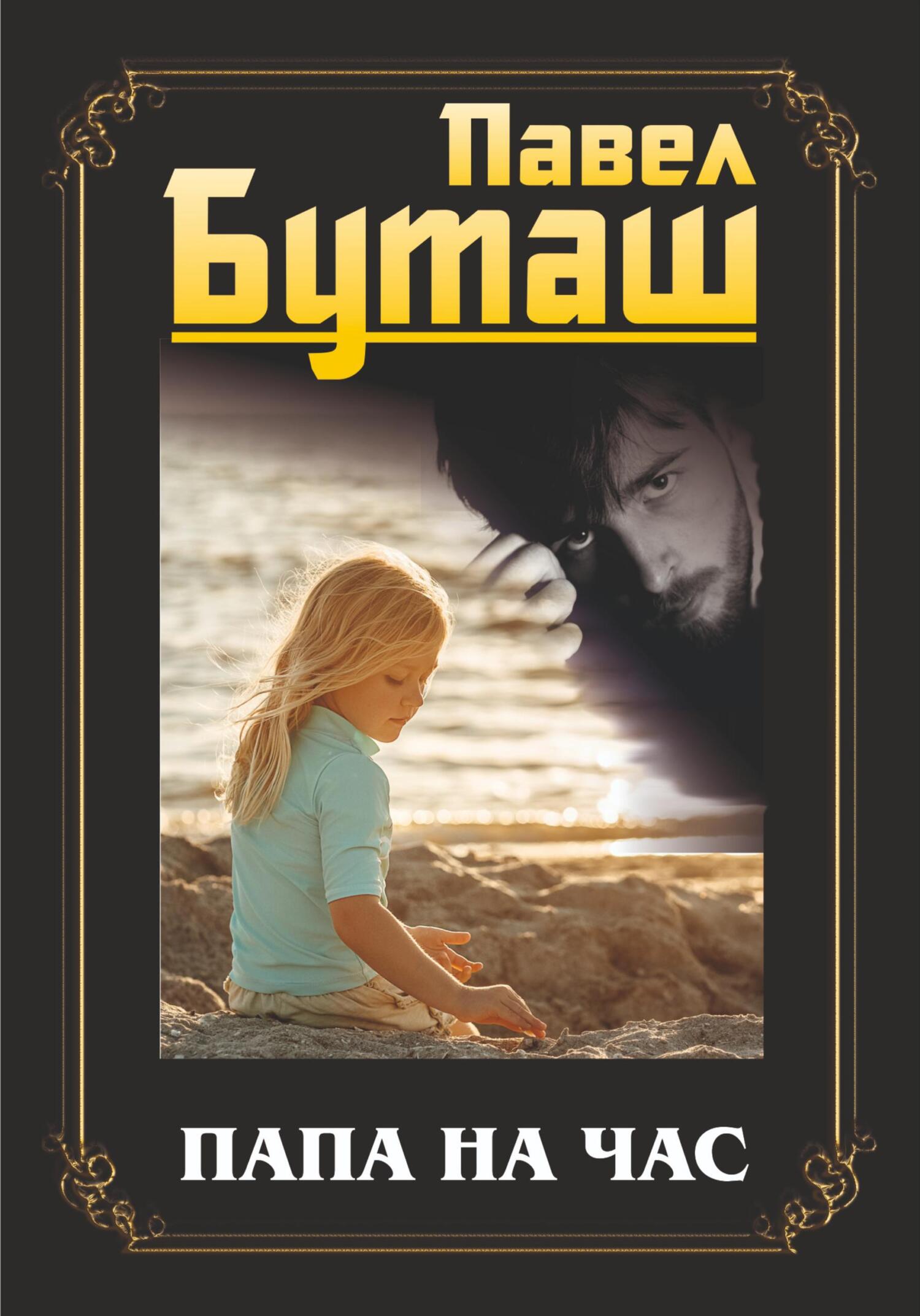А теперь везде опасно, и я никуда не хожу. Когда война закончится? – спросила она, подняв острый подбородок.
– Думаю, года через два, – просто ответила ей Катя. – Мне кажется, раньше не получится.
– Ну, два года – это еще ничего, – быстро кивнула девочка и продолжила рисовать. – Значит, успею еще в школу походить… Вот! – она радостно вспорхнула с кресла. – Смотри!
Катя взяла в руки черно-белый карандашный портрет и посмотрела на себя. И это, ее собственное, очень серьезное и грустное лицо, почему-то взволновало ее память, разбудило что-то неосознанно больное.
– Мне нравится, – честно сказала она. – Очень. Но я здесь красивей, чем в жизни.
– Нет, неправда, – обиженно возразила девочка. – Ты такая и есть. Но тебя трудно рисовать!
– Почему? – удивилась Катя.
– Вот, смотри, у бабушки и нос большой, и лоб хмурый, ямка на подбородке и еще родинка, – показала она кивком головы на задремавшую женщину. – Есть за что зацепиться! У тебя хорошо, что глаза большие, а так лицо слишком правильное и ровное, – тихо объясняла девочка, прижавшись к Кате близко-близко, словно к самому родному человеку. – Это все равно, что речку рисовать!
– Речку? – переспросила Катя и еле удержалась на стуле, чтобы не упасть. Жаркой волной в ее голову хлынули картины того дня: парк Щербакова, наполненный утренним светом, счастливый папа сидит под кружевной ивой, грустная тетя Лена хочет в Ленинград, а Ромка лениво болтает ногами в илистой зеленой воде городского пруда. Все, что Катя никогда не вспоминала, потому что если оно вспоминалось, то начинало кровить сердце.
– Ты после школы где учиться будешь? – нервно сглотнув комок в горле, спросила Катя. – Наверное, в художественное училище пойдешь, да?
– Мама там училась, – грустно ответила девочка. – А дедушка там работал. Он мне рассказывал, что в Ленинграде, ну который сейчас Петербург, есть академия. Которая раньше была Мухиной, а теперь какого-то барона, я его запомнить не могу, – шепотом, почти в ухо Кате, рассказывала она. – Но я видела фотографии. Это самое красивое место на земле. Я хочу там учиться.
– Да? Значит, после школы поедешь в Петербург? – Катя внимательно посмотрела на девочку.
– Наверное, не сразу. Если бабушка будет жива, конечно, не поеду. Я-то ее не оставлю! – обиженно ответила она, глядя на Катю своими упрямыми и взрослыми глазами. – Я-то понимаю, что она без меня и трех дней не проживет.
– Да, – согласилась Катя и подумала, что у нее хоть до пятнадцати лет, но детство все-таки было.
Татьяна Александровна вернулась в комнату, держа в руках фарфоровый заварочный чайник и две чашки, но увидела перед собой мирно сопящую соседку.
– Ну ничего, – вздохнула она и шепотом добавила: – Аня, как бабушка проснется, ты же ей подогреешь чай? А хочешь, мы с тобой останемся?
– Нет, – замотала головой девочка. – Я дальше сама. Я еще порисую.
– Там на кухне тесто было замешано, – сказала тетя Таня. – Я тебе оладьи испекла.
– Мне? – несказанно удивилась Аня.
– Конечно. Поешь, пожалуйста, – попросила она. – А я к тебе еще загляну.
– Хорошо, – обрадовалась девочка. – Вы обе ко мне заходите! Я вам мамины картины покажу. Они у меня в комнате. А дедушкины в гараже, они слишком большие и в квартиру не помещаются.
Вдвоем они молча поднялись на второй этаж, зашли в квартиру Татьяны Александровны, подогрели на ее светлой и чистой кухне воду, помогли друг другу помыть руки. Потом сварили пельмени, потому что ничего другого в холодильнике не было, и нехотя их съели.
А потом по привычке пошли в комнату Вити.
Здесь не изменилось ничего. Словно был октябрь четырнадцатого года, Витя ушел в школу и с минуты на минуту вернется. Каждого входящего в его комнату встречал пристальный и спокойный взгляд Виктора Цоя – постеры с ним и с группой «Кино» висели над простым коричневым диваном, а у окна на письменном столе стоял черный кассетный магнитофон. Витя на барахолке достал старые кассеты с домашними концертами Цоя, а слушать их было негде. И он как-то добыл, выменял у кого-то на «Маяке»[7] этот маленький магнитофон из далеких девяностых.
Однажды Татьяна Александровна и Катя включили его. И в этой трещащей записи, сделанной на чьей-то прокуренной кухне, в том застенчивом и сильном голосе, что пел для своих друзей под гитару, им обеим вдруг почудился живой голос Вити. И они сразу же остановили запись и больше магнитофон никогда не включали.
– А ведь кроме Цоя он никого не слушал? – впервые задумалась об этом Катя.
– Кажется, никого, – ответила тетя Таня, которая сидела на диване сына, прижав к груди коричневую подушку и устало вытянув ноющие после смены ноги. – Да, он был однолюб, – закивала она головой. – Хотя читал всё. Взахлеб.
Книги, действительно, были хозяевами двух стен в этой комнате. Казалось, что-то необъяснимое, сверхъестественное не позволяло этим бесконечным полкам рухнуть под этими бесконечными книгами. Они стояли стройными рядами, такими плотными, что понадобилось бы несколько минут упорного труда, чтобы достать любую из них. Они беспорядочно лежали над этими рядами сверху – в дешевых бумажных обложках и строгих кожаных. Красивые подарочные издания с дорогими иллюстрациями – про Московский Кремль, крейсер «Аврора» и про все на свете – были выставлены как картины.
У самого окна целый шкаф был заполнен томами Большой советской энциклопедии – красными с золотым тиснением, а еще «Библиотекой классики» в ярких переплетах, обклеенных тканью, где у каждого автора был свой цвет. И по треснувшим корешкам и осыпавшимся с них крошечным разноцветным ниточкам сразу было понятно, что чаще всего в этом доме читали Твардовского, Маяковского и Хемингуэя.
– Я до сих пор ни у кого такой библиотеки не видела! – призналась Катя, медленно прогуливаясь вдоль стены и осторожно прикасаясь к книгам рукой. – Даже когда была в гостях у своего преподавателя на филфаке.
– Это все мой папа, – с нежностью сказала тетя Таня. – И ведь, представь, он всю свою жизнь проработал на металлургическом. Он даже не из самого Донецка был, из маленького поселка. Но он был таким… – женщина задумалась, пытаясь подобрать наиболее точное слово. – Он был интеллигентным! Какой-то природной, внутренней интеллигентностью. Откуда это? Мамочка у меня была совсем простая. Она всегда так удивленно смеялась, когда он с каждой зарплаты доставал эти книги.
– Не ругалась? – с улыбкой спросила Катя.
– Нет, не ругалась. Тогда это было настоящее сокровище. А сейчас… Макулатура. А когда Витя родился, папа уже на пенсии был. Но он каждые выходные ездил на книжный рынок, ты его не застала, такой уличный, в парке Щербакова, у стадиона «Шахтер», – серые глаза женщины вдруг засветились мягким