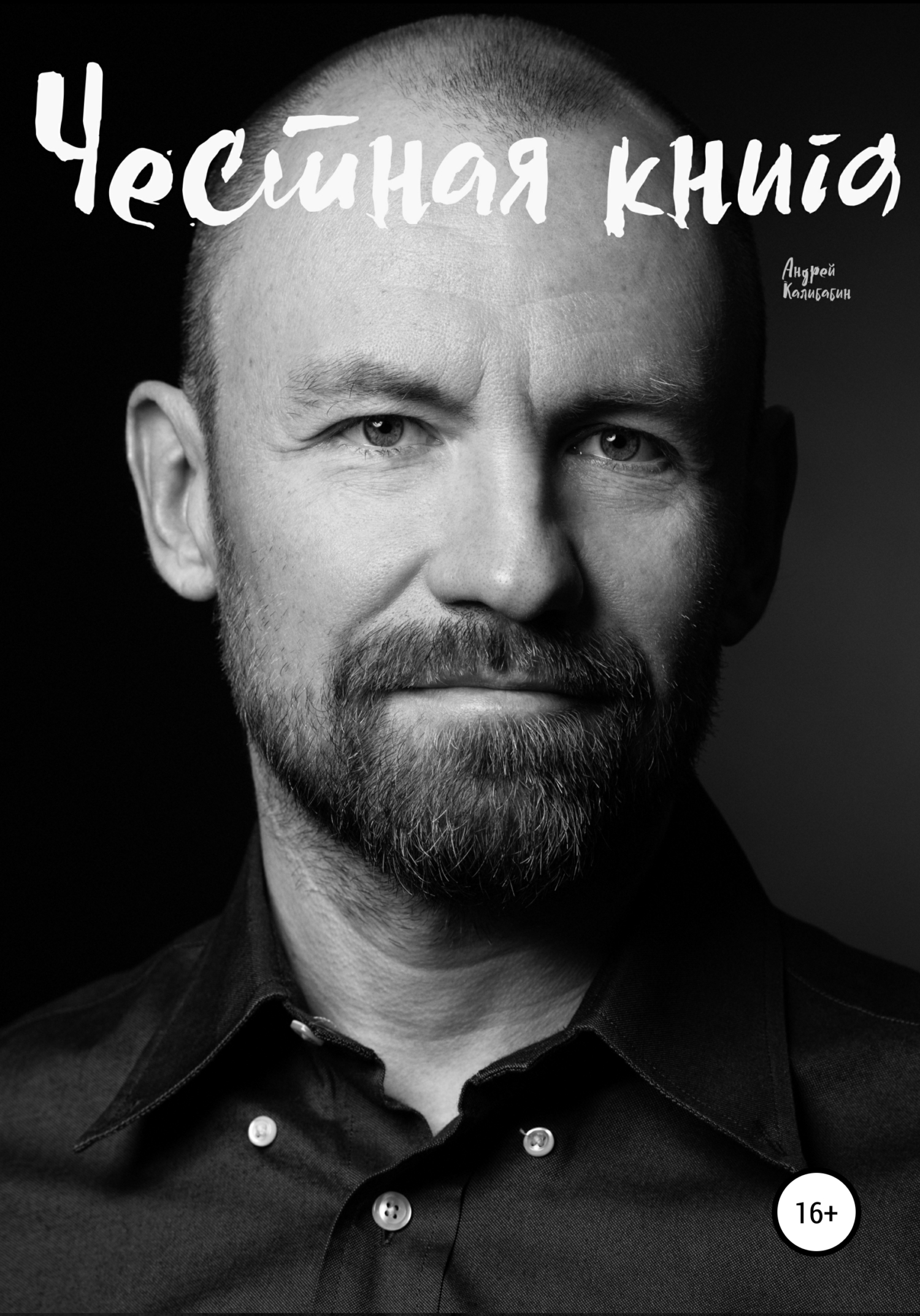Чтоб отдохнуть и подумать, Клемс сел, вытянул перед собой ноги, веялку бросил на мякину.
Вправо от его ног кучка непровеянной ржи. Дальше, впереди, небольшим полукругом мякина, а еще дальше, тоже полукругом, чистые ржаные зерна. Зерна легли густо, и оттого, что чистые они, кажутся очень крупными. Клемс взял горсть непровеянной ржи, начал пересыпать ее с ладони на ладонь. Мякина отлетает в сторону, а на ладони остаются чистые сухие зерна. Он пощупал зерна пальцами, взвесил их на руке и сыпанул в провеянные. Зерна зазвенели и скрылись в куче.
«Пудов около двадцати наберется...» — подумал Клемс. Посидел еще несколько минут молча, скользя взглядом по толстому чистому зерну.— «А ить тогда его в один закром ссыпать надо будет, в один закром...»
Опять поджал под себя ноги, подгреб веялкой под колени мякину и начал веять. От веялки далеко отлетают и кладутся полукругом чистые зерна. Впереди, ближе, тихонько стелется в полукруг мякина.
Стелется мякина, и ровно, спокойно плывет дума. Уже все решено, осталось только сказать о своем решении жене. Сказать надо скорее, не откладывая это до последних дней, чтобы дать ей время поругаться, поворчать и подумать. Думает об этом Клемс и, подгребая в веялку последнее зерно, планирует, как, придя с гумна, заговорит с женой, как скажет ей самое главное. И самое трудное для Клемса сказать, а потом пускай злится она, пускай ругается, потом сумеет отговориться.
В хату Клемс пришел, когда смеркалось. Жена сказала что-то ласковое навстречу ему и быстро накрыла стол, поставила есть. А сама села у печи и начала рассказывать новости, услышанные на улице. Клемс молча ел, не отзывался на ее разговор, несколько раз клал ложку, собираясь заговорить сам, но не осмелился, только разозлился и, поужинав, пошел поить коня. Раздраженный, покрикивал на коня, что тот не пьет, а набирает в рот воды и, жуя губами, выливает ее под ноги Клемсу. Но в сарае, подкладывая коню сена, стал мягче и решил, что придет в хату и скажет жене то, что надо, а она пускай как хочет потом, хочет — молчит, хочет — пусть ругается.
Когда клал сено, конь всунул голову в ясли и, разворачивая мордой сено, начал искать в нем более вкусную траву. А не найдя, начал тереться головой о хозяйскую руку. Клемс похлопал ладонью коня по подбородку, провел рукой по его шее под гривой.
— Да ить и тебя, тогда в одну кучу...
Конь в ответ зафыркал, махнул головой, взял в губы несколько былинок сена и так держал их, не пережевывая, Клемс еще погладил коня рукою по шее и вышел.
Когда он возвратился в хату, жена на печи готовилась спать. Он разделся, сел на лавку, напротив печи, и начал разуваться. Решил завести разговор немедленно и проговорил как-то неожиданно для себя:
— Приходил опять тот, Панас.
Жена смотрит молча.
— Ей-богу...
— Чего его носит?
— Хочет все-таки уломать наших.
— Так и уломает. Пусть погодит еще немножко... И для кого он только старается?
Жена начинала злиться. Клемс, сняв один сапог, сидел, не разматывая портянки.
— Для себя старается, для людей. И уломает. Ты думаешь, нет?
— А кто это пойдет?
— Люди пойдут. Почему не пойти?
— Может, и ты пойдешь? А?
— А я разве хуже других? Я вот и думал... Мы сегодня с Евсеем советовались. Можно и пойти. И Тодор бы пошел, и Петро, и Палашка.
Жена насторожилась.
— И ты с ними в компании?.. Сдурел! Почему умные люди не идут? Небось, Горбули не пойдут...
— Их и не примут, хоть бы они и хотели.
— Не примут! А ты и рад, что тебя примут. Каждого дурака примут, лишь бы пошел!
Она села на печи, свесила ноги.
— Ума-разума где-то набрался, пойдет уже... Тебе, конечно, надо первому лезть в это, не зная, что будет? Век свой ты так. Как только что-нибудь такое, он вперед: я тут, меня! Ассе-е-сор такой. Пойди, поешь вот хлеба там, может, даст бог, попробовав, пазад вернешься... Попробуешь, как это кишки метрами делят. Иди, иди...
— Да чего ты разошлась? Какой это дурак кишки делил? Может, еще и вас там делить будут, у кого женки нет?
— А может, и нет? А что люди говорят, послушай.
— А чтоб тебя с людьми такми!
Старуха не умолкла. Разозленная, она быстро сыпала словами.
— Добро увидели, рады-радехоньки, что их просит туда какой-то черт полосатый, а почему он сам не идет? Сам только ездит да уговаривает! Пускай бы в городе прежде коллективы делали, так нет, они из мужиков наших все хотят... пойди вот, сдурей на старости!..
Клемс так и сидел с одной неразутой ногой. Хорошее настроение пропало, как будто его и не было. Появилась злость на жену.
— Вот намолола, чтоб тебе язык присох! И чего ты только ворчишь? Захочу,— пойду и тебя не спрошу.
— Не спросишь? А я ли не частица в хозяйстве? Пойди!..
— Я тебе такую часть задам, что ты и места не найдешь! Горбули ей компания...
— А тебе Палашка компания?
— Молчи! А то сапогом брошу!.. Луковица эта...
— Ты тоже молчи, старый гриб, не думай, что ты умнее всех!
Клемс не ответил. Он плюнул себе под ноги, поправил на ноге портянку и опять надел сапог. Потом взял кожух и, не раздеваясь, лег на лавке лицом к стене.
Клемс все эти дни ходил неспокойный, даже немного злой. Началось это с тех пор, как в деревне появился Панас. А дело было вот в чем. Слухи о колхозе в Терешкин Брод попали не сразу. Сначала они сплетались где-то далеко, аж в соседнем районе, и оттуда доходили запутанными, как нечто далекое, что не имеет отношения к Терешкиному Броду. Поэтому они Клемса и не беспокоили. А теперь то, что вкладывал Клемс в понятие колхоза, подступало болью к груди и спрашивало: ну, а как же ты, как же ты решишь, куда ты пойдешь? Теперь оно не отступало, не давало нигде покоя. Придет Клемс в гумно, станет на току, а с боков наклоняются ощипанное сено, солома, снопы, тянутся острыми концами колосьев в самое сердце и спрашивают: а как будет тогда? Чьими тогда будут снопы и сено? Ляжет вечером спать и долго не может уснуть, ворочается с боку на бок, нервничает, а оно все не отходит. Хотел весной пересыпать сараи, купил семь пней леса