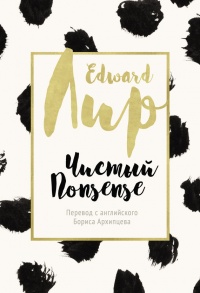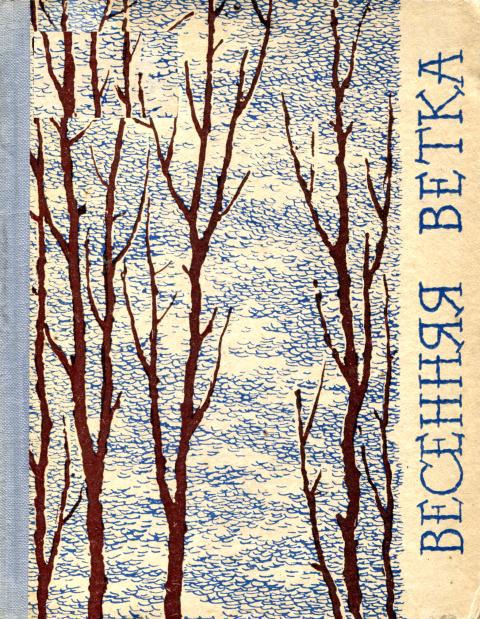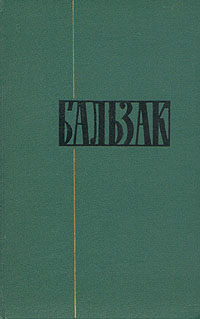придает нашим беседам какую-то замедленность и нарочитую веселость…
Мы с Врагом все еще репетируем новую пантомиму. То в «Фоли-Бержер», куда нас пускают по утрам, то в «Ампире-Клиши», где нам на час предоставляют сцену. А еще мы мечемся между кабачком «Гамбринус» — там обычно во время гастролей репетирует труппа Баре — и танцевальным залом Карнуччи.
— Что ж, вырисовывается в общих чертах, — говорит Браг, скупой на похвалы как другим, так и себе.
Старый троглодит репетирует вместе с нами. Это отощавший, всегда голодный мальчик лет восемнадцати, которого Браг то и дело хватает за грудки, поминутно одергивает и так поносит, что мне его становится жалко.
— Зачем ты так наваливаешься на мальчишку, ведь он вот-вот заплачет.
— Пусть плачет! Я ему еще сейчас ногой по заднице врежу. Слезы — это не работа.
Быть может, Браг и прав… Старый троглодит глотает слезы, старается изогнуть спину на доисторический манер и самоотверженно охраняет Дриаду, которая изгаляется перед ним в белом трико…
Как-то утром на прошлой неделе Браг дал себе труд лично зайти ко мне, чтобы предупредить, что назначенная на завтра репетиция отменяется. Он застал у меня Амона и Дюферейна-Шотеля, мы втроем завтракали.
Мне пришлось попросить Брага посидеть с нами хоть несколько минут, я предложила ему кофе, представила его моим гостям… Я заметила, что Браг нет-нет, да и поднимает свои черные блестящие глаза на моего поклонника, с любопытством и одобрением разглядывает его, он был явно доволен, и от этого я почему-то смутилась. Просто глупость какая-то!..
Когда я провожала Брага до дверей, он не задал мне ни одного вопроса, не позволил себе ни фамильярной шутки, ни двусмысленного намека, и от этого мое смущение лишь усугубилось. Чтобы не показаться смешной, я не посмела пуститься в объяснения типа: «Знаешь, это один мой приятель… Это друг Амона, он привел его ко мне завтракать…»
На Фасетте теперь красный сафьяновый ошейник, украшенный позолоченными гвоздиками в спортивном духе — на редкость безвкусный предмет. Я не посмела сказать, что нахожу его безобразным… А она — проклятая, угодливая сучка! — пресмыкается перед этим хорошо одетым господином, который пахнет мужчиной и табаком и ласково похлопывает ее по спине. Блан-дина тоже лезет из кожи вон, до блеска протирает оконные стекла, а когда приходит мой поклонник, сама, без моей просьбы, приносит поднос с чаем…
Все, следуя примеру Амона, находятся как бы в заговоре против меня, все они за Максима Дюферейна-Шотеля… Но, увы! Мне не стоит большого труда оставаться равнодушной!..
Равнодушной и более чем бесчувственной: отвергающей. Когда я пожимаю моему поклоннику руку, то прикосновение к его длинным пальцам, теплым и сухим, вызывает у меня удивление и неприязнь. А если я ненароком дотрагиваюсь до сукна его сюртука, меня пронизывает нервная дрожь. Когда он говорит, я невольно отстраняюсь, чтобы меня не обдало его дыханием… Я ни за что бы не согласилась завязать ему галстук и предпочла бы скорее пить из стакана Амона, чем из его… Почему?
Да, потому что… он мужчина. Помимо своей воли я все время помню, что он мужчина. Амон не мужчина для меня, он — друг. И Браг не мужчина — он товарищ. Бути — тоже товарищ. Стройные и мускулистые акробаты, у которых благодаря серому обтягивающему трико обнаруживается вся скульптурная рельефность их мужской стати… что ж, они тоже не мужчины, они — акробаты!
Когда на сцене Браг так сжимает меня в своих объятьях, что трещат ребра, или прижимается губами к моим губам, изображая страстный поцелуй, приходило ли мне когда-нибудь в голову, что он существо другого пола?.. Нет, никогда! А вот любой, даже случайно брошенный взгляд моего поклонника или даже самое невинное его рукопожатие напоминают мне, зачем он здесь и на что надеется. Какое это было бы прекрасное времяпрепровождение для кокетки! Какой возбуждающий флирт!
Несчастье заключается в том, что флиртовать я не умею. К этому у меня нет никакой склонности, да и нет опыта, легкомыслия, а главное… О, это главное!.. Мне мешает память о моем муже!
Стоит мне хоть на одно мгновенье представить Адольфа Таиланди за его любимым занятием, когда он, исполненный азарта, выходит, так сказать, «на охотничью тропу», готовый на все, чтобы соблазнить свою очередную жертву, я сразу становлюсь холодной, скованной, враждебной ко всему, что имеет отношение к «любви»… Я слишком хорошо знаю выражение его лица после очередной победы, плывущий взгляд, детский рот в хитроватой ухмылке, чувственное подрагиванье ноздрей, улавливающих любой летучий запах… Бог ты мой! Все эти уловки, вся эта кухонная возня вокруг любви — вокруг цели, которую даже нельзя назвать любовью, — неужели я могу быть к ним причастной, ими пользоваться? Бедный Дюферейн-Шотель! Порой мне кажется, что это вас здесь обманывают, что я должна была бы вас предупредить… Предупредить о чем? О том, что я стала старой девой, что не испытываю никаких желаний, что я на свой лад заточила себя в монастырь, избрав в виде кельи гримуборную мюзик-холла.
Нет, я вам всего этого не скажу, потому что мы с вами обмениваемся, словно на втором уроке иностранного языка по системе Берлица, лишь самыми простейшими фразами, в которых чаще всего употребляются такие слова, как хлеб, соль, окно, температура, театр, семья…
Вы мужчина, тем хуже для вас! Все в моем доме помнят об этом, но не как я, а чтобы вам служить, начиная с Бландины, которая глядит на вас с нескрываемым обожанием, до Фасетты, чья собачья улыбка от уха до уха говорит о том же: «Наконец-то! В доме появился мужчина. Вот он — МУЖЧИНА!»
Я не умею с вами разговаривать, бедный Дюферейн-Шотель. Я колеблюсь между тем языком, на котором говорю я, резким, с оборванными фразами, где каждому слову придается его первородное значение, — язык бывшего синего чулка, и тем живым, грубоватым образным жаргоном, на котором говорят в мюзик-холле и который пестрит всякими там «обалденно!», «кончай выступать!», «в гробу я их видел», «меня ободрали».
Так как я колеблюсь, то предпочитаю молчать.
II
— Дорогой Амон, я так рада, что мы завтракаем вместе! Сегодня нет репетиции, светит солнце, да еще вы здесь, со мной. Все хорошо!
Мой старый друг, которого ни на миг не отпускает ревматическая боль, улыбается мне. Он польщен. Как он постарел, похудел, стал почти невесомым, и от этого кажется еще выше. Заострившийся нос, чуть искривленный… До чего же он похож на Рыцаря Печального Образа…
— Но мне кажется,