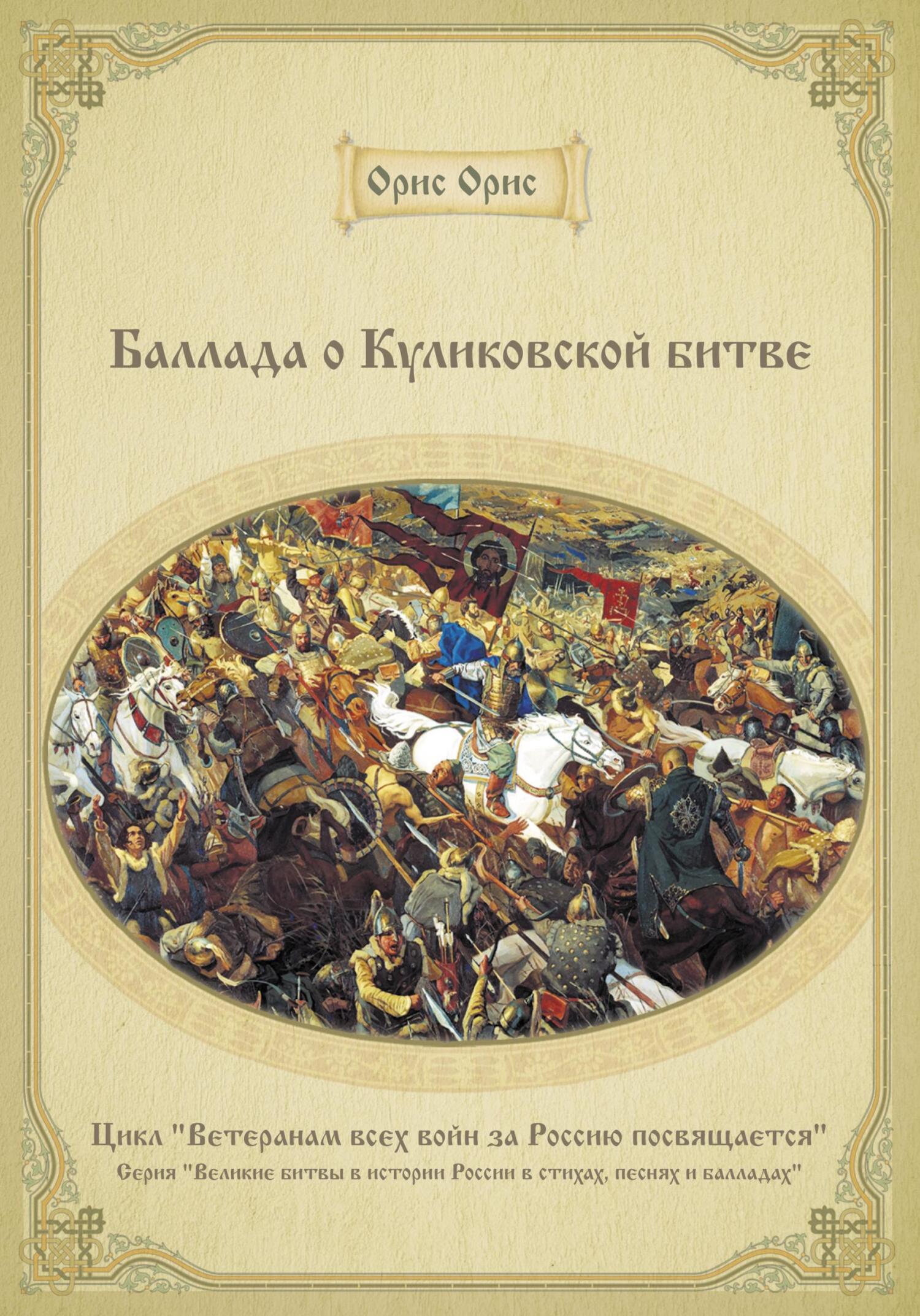двумя молниями SS.
— Старые люди говорят, — отозвался Гжибовский, — и войне приходит конец.
Весек вздохнул:
— А меня мать мало что солдатским ремнем лупит, вчера так обозлилась — не посмотрела, каким концом бьет. Снаряды-то снаряды, но от этой пряжки…
Задрал рубашку, показал — и правда, от пряжки «Gott mit uns»[3] остались синяки.
Лампочка под потолком висела таинственная и темная. В ней отражались красноватые отблески от печки и желтые — от керосиновой лампы. Пламя почему-то вытянулось и стало коптить. Карчмарек подкрутил латунный винт.
— Ну, еще по одной. Чтоб не поздней апреля. Я бы съездил в Берлин или в Гамбург, чего-нибудь привез.
Опрокинули. В горле у Гжибовского забулькало. Он перемогся, проглотил. Задумался. Новачек заговорил:
— Знать бы, что дальше. Все порушилось. Одни говорят, так и будет, другие — будет иначе. Было б хоть радио, послушали бы.
— По радио вроде говорили, утрясется.
— Или хотя б газеты.
— Один, я слыхал, купил где-то газету. Но только соседям дает.
— Всяк к себе гребет.
— Лишь бы погода установилась. Будет вёдро, скорей все закончится.
— Теперь-то уж так и так закончится.
— А все же, если погода, быстрее.
Новачек закусил хлебом с солью:
— До чего ж глупые есть люди. Я слыхал, один нашел фаустпатрон. И знает, что можно стрелять, да не знает как. Взял точно винтовку, упер ствол в плечо и выпалил.
Мужчины рассмеялись, а женщины зашептали:
— Царствие ему небесное…
— Старые люди, я так считаю, много знают и понимают… — Гжибовский опять задумался и, помолчав, добавил: — А может, и нет.
Мы во второй раз зарядили пушечки. Мать Карчмареков посмотрела на нас сердито:
— Снова навоняете в доме, опять мне проветривать и холоду напускать.
Тогда мы побежали на улицу. Там были и другие ребята. В густеющем сумраке пускали трубочки с порохом. Лучше всех горели тоненькие, зеленоватые. Их запускали из-под башмака, они шипели и описывали в воздухе петли, оставляя за собой хвосты сладковато пахнущего дыма.
— Хоть бы уж отец вернулся, — сказал Весек. — С матерью тяжело, ничего не понимает.
А погода была такая.
Хуже всего в первые недели — мало снегу, сильные морозы. Тогда даже мать Весека разжигала сырой торф тротилом, который остался на немецких складах. Такие брусочки — желтоватые, горькие. Без взрывателя тротил не рвался и горел хорошо. Сильно дымил.
А потом-то уж погода переменилась. Началась оттепель, в воздухе больше не пахло зимой. Снег еще лежал тонким покровом, но уже пора было зацвести вязам, тополям. Руки не мерзли…
Наша школа
Нашу школу опять выгнали из школы. На перемене явились: один в тирольской шляпке и двое в мундирах. Шли, и вокруг все замирало. Лавировали по коридору, где мы подставляли друг другу подножки; на шляпке колыхалось перо.
После звонка учительница долго не приходила, наконец в коридоре застучали ее каблуки. Она вошла в класс и сказала:
— Наша школа временно закрывается. Положите карандаши и ручки в пеналы. И резинки спрячьте, и тетради. Чернила возьмите с собой…
Наш класс был в конце коридора. Мы выходили последними. Перед нами шли, а за нами коридор затихал и пустел. Учительница с журналом под мышкой впереди. Не свернула в учительскую. Пеналы грохотали в ранцах и сумках.
— До свиданья, дети, — сказала учительница.
— До-сви-да-ни-я, — ответили мы на лестнице.
Днем по улице в сторону школы проехали грузовики. У каждого за кабиной была печка. В гору их толкал древесный газ и слабая надежда. На грузовиках везли ящики. Еще ящики подвозили на телегах.
Школьная сумка из серого полотна лежала в углу. Той осенью старший Карчмарек где-то раздобыл подпольную газету. По этой газете мы понемножку учились читать, она была на тонкой папиросной бумаге, страшно секретная и интересная. Считать учились на дивизиях: от двадцати девяти дивизий отнять два раза по четыре дивизии…
— Дурак, кто же считает все вместе, простые и танковые.
— А знаешь, сколько вчера бомбило Берлин?
— Ну сколько, сколько?
— Тысяча двести.
— Подумаешь! Тысяча двести это совсем не много.
А пока что вдоль школьной ограды ходили часовые в касках, с которых скатывались капли ноябрьского дождя. Мы несколько раз подходили, издалека смотрели на школу.
Как-то на улице нам повстречалась учительница:
— Утром придете ко мне. Захватите тетради и карандаши.
Мы гордились, что у нас будут конспиративные занятия, как у гимназистов. Утром, по дороге, внимательно осматривались по сторонам. Навстречу шел жандарм. Карчмарек шепнул, чтоб не обращали внимания. Мы сошли с тротуара. Жандарм был слегка навеселе и велел сказать ему «Гут-морген».
Во дворе столкнулись с Каськой Янышек и Мрочковской. Сделали вид, будто их не знаем. В дверь постучали тихонько. Три раза. Учительница усадила нас вокруг стола.
Мужа у нашей учительницы не было. Волосы она собирала в пучок, как все школьные учительницы. Для маскировки на окнах стояли пеларгонии.
— Везет старшеклассникам, — вздохнул Карчмарек-младший, когда тайный урок закончился. — Учились бы мы в старших классах, были б харцерами. Харцерам хорошо. Они на сборах обчищают машины.
У часовых, которые охраняли школу, видно, была стирка. Ударили первые заморозки. Под порывами холодного ветра фуфайки с кальсонами размахивали рукавами и штанинами, словно норовя удрать.
В начале января учительница сказала:
— Фронт двинулся!
Мы-то уже знали, еще бы, мы с Весеком и Карчмареками давно знали и готовились, но фронт прокатился над подвалами домов.
А вскоре заиграли перед школой медные трубы — оркестр пожарников.
— Ребята, — говорил директор, — ребята, теперь, когда пришла свобода…
В зале было холодно. Мы переминались с ноги на ногу. Учительница парами повела нас в класс. Коридор был обшарпан больше, чем осенью, а в классе все осталось как прежде. Только парт мало. Кто мог, втиснулся, остальные — на полу. Поэтому казалось, учительница чуточку выросла.
— Ребята! Некоторые из вас немножко занимались, другие нет. Но вы наверняка многому научились сами…
Пол был холодный, но вскоре с башмаков у нас потекло.
— Ребята, — говорила учительница, — фронт уже не слышен. Постепенно мы начнем забывать о войне. Вы будете играть в мяч на спортплощадке. Нашу школу никто никогда уже не выгонит.
Учительница разволновалась. Мы сидели тихо, но не все слушали внимательно.
— А вы там чем забавляетесь? — спросила учительница. — Вы… Вон ты, сзади…
— …
— Да! Ты! Я к тебе обращаюсь!
— …
— Встань!
Встал.
— Чем ты там забавлялся? — снова спросила учительница.
Тот мальчик покраснел. Учительница сказала строго:
— Ты почему прячешь руки за спину? Дай сюда, не то я тебя выгоню.
— Я больше не буду, — пообещал Вишневский.
— Я сказала, что выгоню, значит, выгоню, — нахмурила брови учительница и сделала шаг в его сторону.
Ребята, которые сидели с Вишневским,