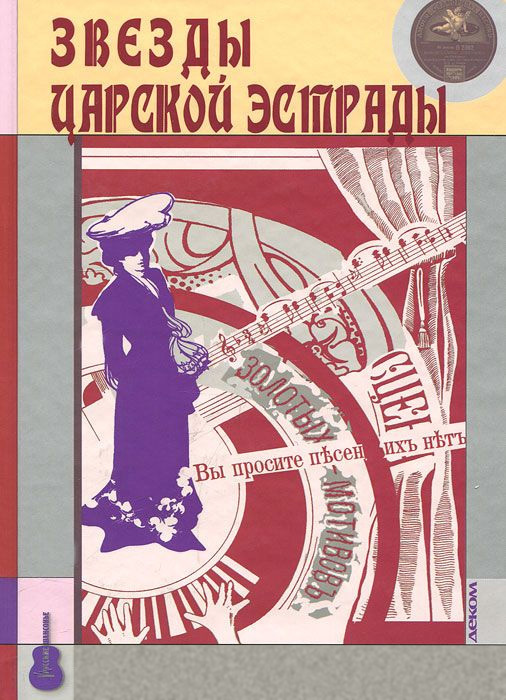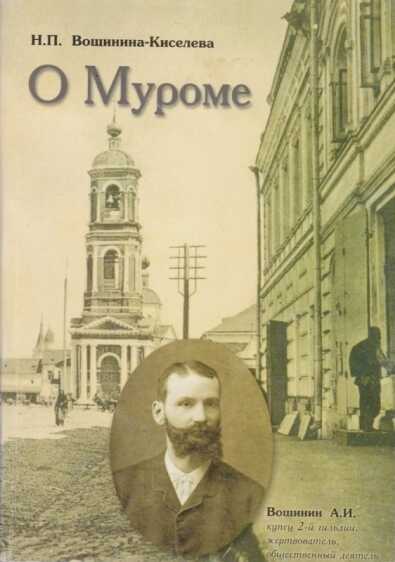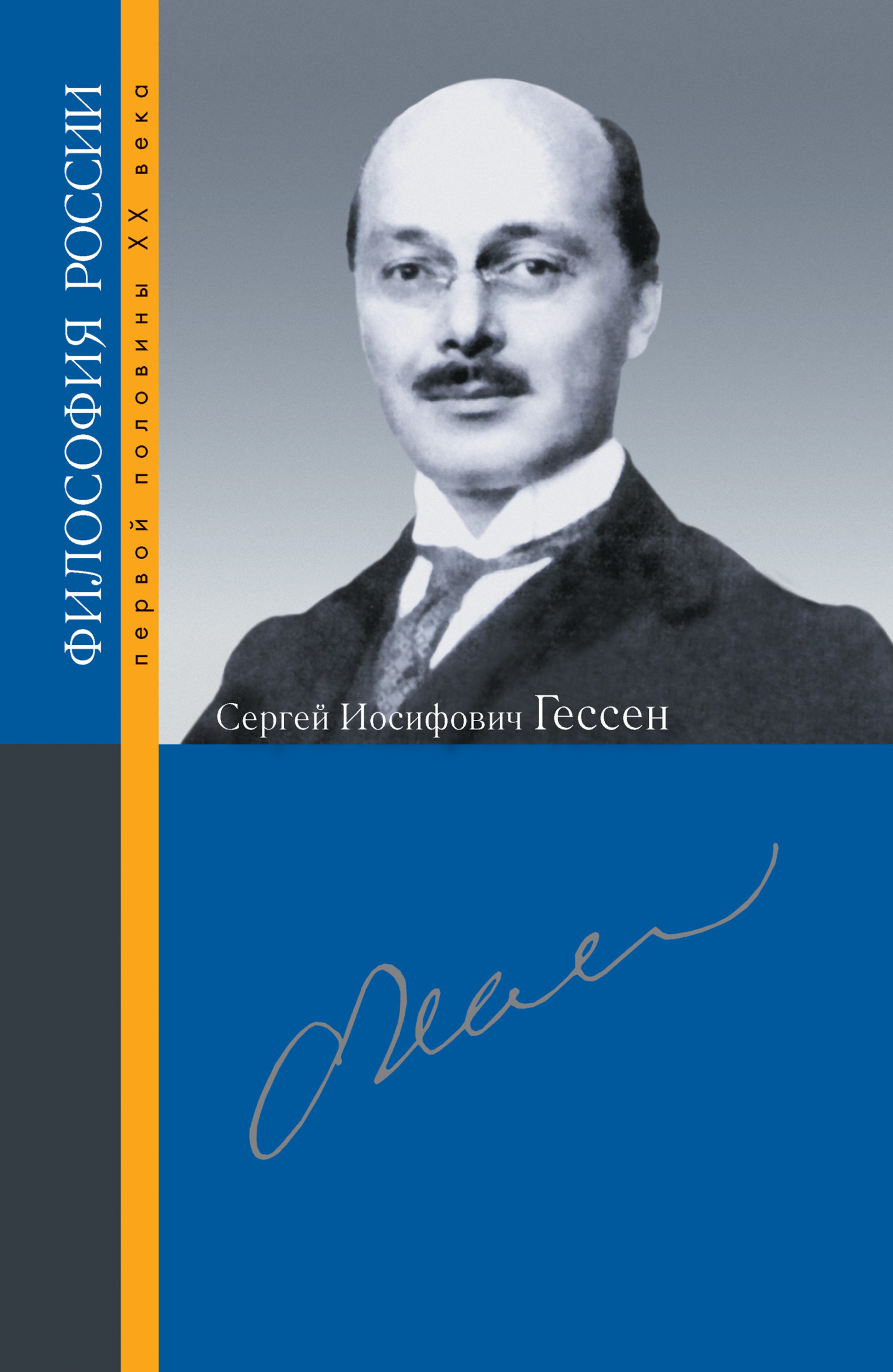был объявлен мой первый концерт. Он знал, что все билеты на него проданы, и даже не пытался упрашивать меня о возвращении к «Яру».
Первым концертным импресарио моим был маленький и пузатенький В.В. Семенов с белым кукольным лицом. Еще в Крыму он заключил со мной договор на десять концертов. С каждого я получала по триста рублей.
Когда сборы стали давать по пяти тысяч на круг, Семенов засовестился, что мало мне платит, но трехсотрублевого гонорара не повысил, а стал мне подносить на каждом концерте подарки, и все громоздкие. Раз даже поднес большую чугунную статую с электрическими лампами, и, когда человек подвинул ее ко мне на сцене, Семенов включил провода, и пыхнуло мне ярким светом прямо в лицо.
Он этакие чудачества любил, а я их терпеть не могла. Ну и досталось ему за его подарок!
Я не была жадна на деньги, и только успех искренно радовал меня. Концерты с В.В. Семеновым еще не были закончены, а я уже подписала новый договор, с В.Д. Резниковым, более выгодный. Резников сам мне предложил сорок концертов с гарантией: десять в столицах по две с половиной тысячи рублей за каждый, десять по тысяче рублей и двадцать по восемьсот.
Вот и достаток ко мне пришел, что позволило мне взять хорошую квартиру в Дегтярном переулке.
Квартира устраивалась, а я, как поселилась по приезде из Крыма в меблированных комнатах у Ванечки Морозова на Большой Дмитровке, так там и жила.
Ванечку в Москве знали хорошо, и уютные его покойчики всегда были заняты артистами.
Моими соседями были М. Вавич и опереточная певица Миликетти, сверкающая бриллиантами и красотой.
Помню в первых числах марта белое московское утро. Падал хлопьями тихий снег, ложился мягким пуховиком за окном, на подоконник, причудливо и пышно нарядил деревья – и все стало сребристым и светлым. Снег тихо колдует над Москвой, и впрямь стала Москва словно Серебряная царевна в своем покое снежном.
Так бы и не отходила от окна, все смотрела, смотрела бы на эти белые, колдующие хороводы, на притихшую, запушенную улицу, по которой с храпом проносятся рысаки, в дымке дыхания и снега, а бубенцы бормочут, смеются и все куда-то спешат, спешат.
Сквозь белую дымку мелькают дуги расписные, легкие сани, седоки в бобрах.
Зимнее московское утро, родимая Москва, Серебряная царевна моя, сон далекий…
Я помню, это было утро после моего прощального бенефиса в театре «Буфф». Я расставалась с милым моим директором, чудеснейшим Блюменталь-Тамариным.
И судьба, которая что хочет, то с нами и делает, была такова, что я прощалась с ним навсегда: вскоре Блюменталь-Тамарин скончался внезапно. Накануне кончины он видел во сне свои собственные похороны. Сон оказался вещим. А в то белое утро, после театральных именин, яи себя чувствовала именинницей, глядя на цветы и подарки, от которых было тесно в комнате.
Горничная Маша, мой неизменный спутник тех лет, принимала мои успехи и на свой счет и говорила:
– Ну и подарков мы вчера получили – пропасть. А успех у нас был – ужасти.
В дверь постучали. Выбежав на стук, Маша вернулась с ошалелыми, круглыми глазами: просит приема московский губернатор Джунковский.
– Милости прошу, – сказала я входящему генералу Джунковскому.
Губернатор был в парадном мундире. Мне была понятна оторопь Маши при появлении в нашей скромной квартире такой блестящей фигуры: было с чего ошалеть.
– Я спешил к вам, Надежда Васильевна, прямо с парада, – сказал Джунковский. – Я приехал с большой просьбой по поручению моего друга, командира Сводного Его Величества полка, генерала Комарова. Он звонил мне утром и просил, чтобы я передал вам приглашение полка приехать завтра в Царское Село петь на полковом празднике в присутствии государя императора.
– Кто же от своего счастья отказывается? – сказала я, вставая. – Только как быть с моим завтрашним концертом? Ведь это мой первый большой концерт в Москве, да и билеты распроданы.
– С вашего позволения я беру все это на себя. Я переговорю с импресарио, и в газетах объявим, что, по случаю вашего отъезда в Царское Село, концерт переносится на послезавтра.
Конечно, долго уговаривать меня не приходилось. Я была согласна.
Генерал Джунковский сказал, что для меня оставлено место в курьерском, пожелал успеха в Царском Селе и распрощался.
От неожиданной радости белого утра, от цветов, которые свежо дышали в моей комнате, у меня приятно кружилась голова. Я видела из окна, как серый в яблоках рысак унес закутанного в николаевскую шинель статного московского губернатора. Унеслись годы и годы, а утро белое, Серебряная царевна – Москва живет во мне: как хорошо, как радостно вспомнить то утро!
В тот день Маша вертелась волчком, спешно готовясь к отъезду. Она уложила меня в постель набраться сил на завтра, а сама хлопотала. Надобно было решить важный вопрос: какое мы платье наденем. И решили мы надеть белое от Пантелеймоновой и украсить себя всеми драгоценностями, какие только имеются, а на голову еще парчовую повязку.
А позже я узнала, что государь о моем пышном наряде отозвался неодобрительно и высказал сожаление, что я не была одета более скромно.
Позже были скромны мои платья, когда я пела в присутствии его величества.
* * *
С моим другом, Марией Германовной Алешиной, которая умела меня уберечь от лишних волнений и усталости, я приехала в Петербург, а оттуда в Царское Село. В доме В.А. Дедюлина, во флигеле, для меня были приготовлены комнаты для отдыха. В десять часов вечера мне позвонил из собрания командир Сводного Его Величества полка и сказал, что за мной выехал офицер.
С трепетом садилась я в придворную карету. Выездной лакей, в красной крылатке, обшитой желтым галуном и с черными императорскими орлами, ловко оправил плед у моих ног и захлопнул дверцы кареты. На освещенных улицах Царского Села мы поднимали напрасное волнение городовых и околоточных; завидя издали карету, они охорашивались и, когда карета с ними равнялась, вытягивались.
Такой почет, больше к карете, чем ко мне, все же вызывал у меня детское чувство гордости.
Через несколько мгновений я увижу близко государя, своего царя. Если глазами не разгляжу, то сердцем почувствую. Оно не обманет, сердце, оно скажет, каков наш батюшка-царь.
Добродушный командир полка В.А. Комаров, подавая мне при входе в собрание чудесный букет, заметил мое волнение.
– Ну чего вы дрожите, – сказал он, – ну кого боитесь? Что прикажете для бодрости?
Я попросила чашку черного кофе и рюмку коньяку, но это меня не ободрило, и я под негодующие возгласы В.А. Дедюлина и А.А. Мосолова приняла двадцать капель валерьянки.
Но и