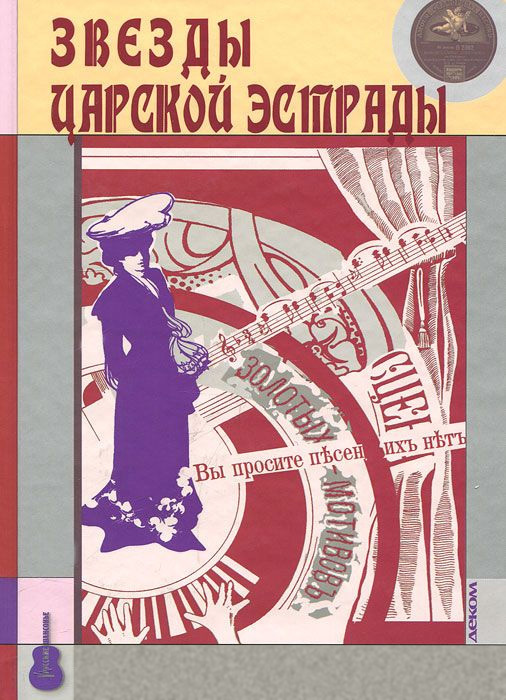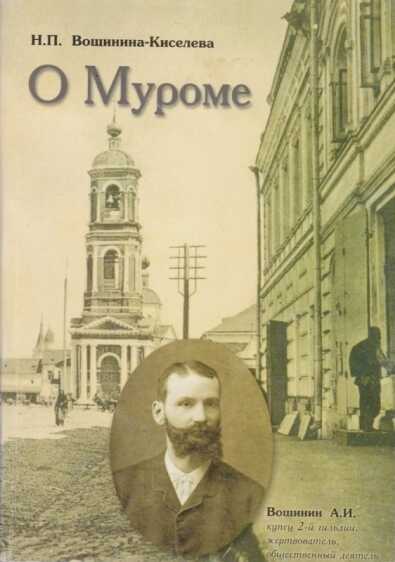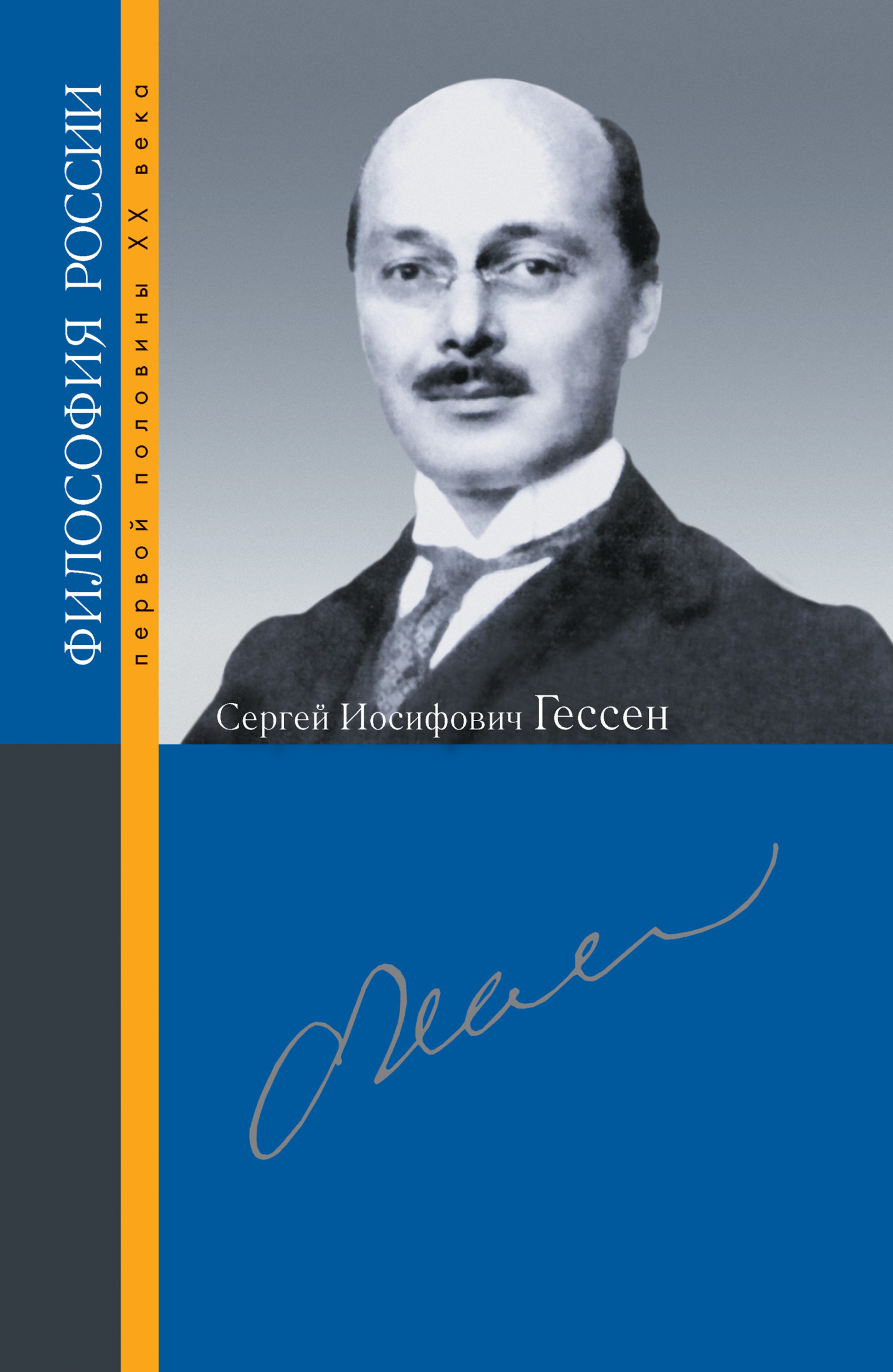капли не помогали.
И вот распахнулась дверь, и я оказалась перед государем. Это была небольшая гостиная, и только стол, прекрасно убранный бледно-розовыми тюльпанами, отделял меня от государя.
Я поклонилась низко, и посмотрела прямо ему в лицо, и встретила тихий свет лучистых глаз. Государь будто догадывался о моем волнении, приветил меня своим взглядом.
Словно чудо случилось, страх мой прошел, я вдруг успокоилась.
По наружности государь не был величественным, и сидящие генералы и сановники рядом казались гораздо представительнее. А все же, если бы я и никогда не видела раньше государя, войди я в эту гостиную и спроси кто меня: «Узнай, кто из них царь?» – я бы не колеблясь указала на скромную особу его величества. Из глаз его лучился прекрасный свет царской души, величественной простотой своей и покоряющей скромностью. Потому я его и узнала бы. Он рукоплескал первый и горячо, и последний хлопок всегда был его.
Я пела много.
Государь был слушатель внимательный и чуткий. Он справлялся через В.А. Комарова, может быть, я утомилась.
– Нет, не чувствую я усталости, я слишком счастлива, – отвечала я.
Выбор песен был предоставлен мне, и я пела то, что было мне по душе. Спела я и песню революционную про мужика-горемыку, который попал в Сибирь за недоимки. Никто замечания мне не сделал.
Теперь, доведись мне петь царю, я, может быть, умудренная жизнью, схитрила бы и песни этакой царю и не пела бы, но тогда была простодушна, молода, о политике знать не знала, ведать не ведала, а о партиях разных и в голову не приходило, что такие есть.
А как я была в политике не таровата, достаточно сказать то, что, когда слышала о партии кадетов, улавливала слово «кадет» и была уверена, что идет речь об окончивших кадетский корпус.
А песни-то про горюшко горькое, про долю мужицкую, кому же и петь-рассказывать, как не царю своему батюшке? Он слушал меня, и я видела в царских глазах свет печальный. Пела я и про радости, шутила в песнях, и царь смеялся. Он шутку понимал простую, крестьянскую, незатейную.
Я пела государю и про московского ямщика:
Вот тройка борзая несется,
Ровно из лука стрела,
И в поле песня раздается —
Прощай, родимая Москва!
Быть может, больше не увижу
Я, Златоглавая, тебя,
Быть может, больше не услышу
В Кремле твои колокола.
Не вечно все на белом свете,
Судьбина вдаль влечет меня,
Прощай, жена, прощайте, дети,
Бог знает, возвращусь ли я?
Вот тройка стала, пар клубится,
Ямщик утер рукой глаза,
И вдруг ему на грудь скатилась
Из глаз жемчужная слеза.
После моего ямщика государь сказал А.А. Мосолову:
– От этой песни у меня сдавило горло.
Стало быть, была понятна, близка ему и ямщицкая тоска.
Во время перерыва В.А. Комаров сказал, что мне поручают поднести государю заздравную чару.
Чтобы не повторять заздравную, какую все поют, я наскоро, как умела, тут же набросала слова и под блистательный марш, в который мой аккомпаниатор вложил всю душу, стоя у рояля, запела:
Пропоем заздравную, славные солдаты.
Как певали с чаркою деды наши встарь,
Ура, ура, грянемте, солдаты,
Да здравствует русский наш сокол государь!
И во время ритурнеля медленно приблизилась к царскому столу. Помню, как дрожали мои затянутые в перчатки руки, на которых я несла золотой кубок. Государь встал. Я пела ему:
Солнышко красное, просим выпить, светлый царь,
Так певали с чаркою деды наши встарь!
Ура, ура, грянемте, солдаты.
Да здравствует русский, родимый государь!
Государь, приняв чару, медленно ее осушил и глубоко мне поклонился.
В тот миг будто пламя вспыхнуло, заполыхало – грянуло громовое «ура», от которого побледнели лица и на глазах засверкали слезы.
Когда государя уже провожали, он ступил ко мне и крепко и просто пожал мою руку.
– Спасибо вам, Надежда Васильевна. Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такою, какая вы есть. Я много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца. Самая простая песня в вашей передаче становится значительной и проникает вот сюда. – Государь слегка улыбнулся и прижал руку к сердцу. – Надеюсь, не в последний раз я слушал вас. Спасибо!
И снова крепко пожал мне руку.
В ответ на милостивые слова государя я едва могла вымолвить:
– Я счастлива, ваше величество, я счастлива.
Он направился к выходу, чуть прихрамывая, отчего походка его казалась застенчивой. Его окружили тесным кольцом офицеры, будто расстаться с ним не могли.
А когда от подъезда тронулись царские сани, офицерская молодежь бросилась им вслед и долго бежала на улице без шапок, в одних мундирах.
Где же вы – те, кто любил его, где те, кто бежал в зимнюю стужу за царскими санями по белой улице Царского Села? Иль вы все сложили свои молодые головы на полях тяжких сражений за Отечество? Иначе не оставили бы государя одного в дни грозной грозы с неповинными голубками-царевнами и голубком-царевичем.
Вы точно любили его от всего молодого сердца.
* * *
На первом моем московском концерте в Большом зале Консерватории москвичи удостоили меня бурной овацией. А когда я вышла после концерта к автомобилю, меня ждала у подъезда тысячная толпа и так приветствовала, и так теснилась, что студенты устроили вокруг меня живую цепь.
У двери автомобиля стоял, и почему-то без шапки, сам московский градоначальник А.А. Андрианов. Он помог мне сесть, он что-то говорил, что-то радостно кричали бежавшие за автомобилем студенты. Я вовсе растерялась.
Опомнилась я только в курьерском поезде, который мчал меня в Петербург, где я должна была петь на другой же день после московского концерта.
Мое купе дышало цветами, в ровной дрожи поезда мне точно кивали головки гвоздик, свежие розы и даже родные васильки, маки, колосья ржи. Откуда только их взяли в эту пору?
От озноба, который меня посещает всегда после большого душевного подъема, стучали мои зубы.
А Маша то давала мне капель, то горячего молока и тараторила без умолку об «ужастях» московского успеха.
Сон не шел ко мне, в голове звенели колокола, и сердце ширилось от благодарной любви ко всем людям, ко всему миру, за то, что нежданно и незаслуженно, сама