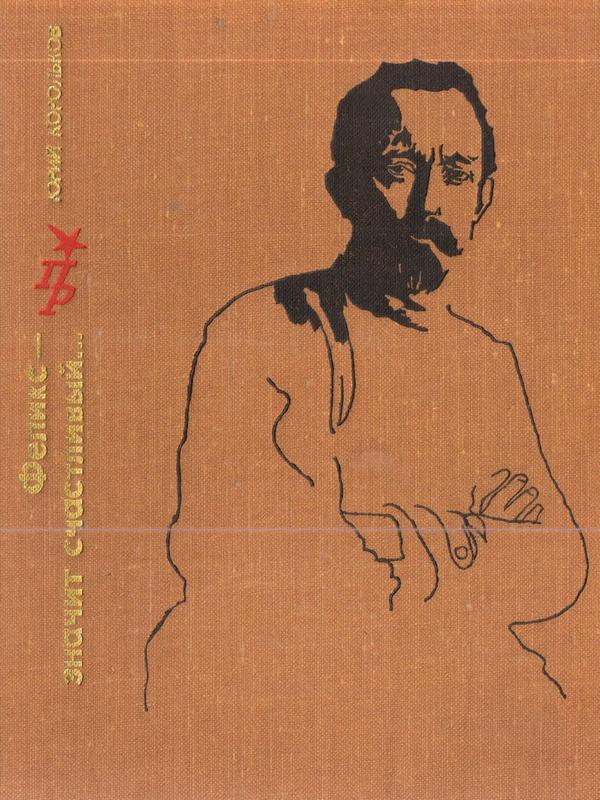что она может убежать от него, не переставая говорил ей что-то. Под маленьким дамским зонтиком она казалась в темном лесу заблудившимся, сбившимся с дороги облачком.
Васко смотрел, как они медленно, спокойно подходили — тихая благополучная пара. А сам ощущал себя голодным волком, затаившимся перед прыжком, не спуская хищных глаз с пастуха и овечки на поляне, и чем веселее болтали эти двое, тем сильнее лязгали волчьи зубы: вдруг за разговорами отпустят на минутку овечку — тогда он одним прыжком настигнет и унесет ее. Но пастух, словно предчувствуя, что может случиться, все крепче прижимал овечку к себе… Подозревая как будто, что и овечка…
В тот вечер Петринский опять опередил их. Зябко кутаясь в свою шубу, он поминутно смотрел на часы, как будто от этого стрелки бежали быстрее… Павильон наполнялся отдыхающими и рабочими…
— Их еще нет? — спросила его Верча в тот самый момент, когда он подумал, что пора им появиться. Она села напротив него и вызывающе усмехнулась: — Не волнуйся, придут.
— Что с тобой?
— Со мной? Ничего. Это с тобой что-то. Такое впечатление, что тебя здорово закрючили. Ты так дергаешься, будто попался в ловушку!
— Богатая фантазия — дар божий, дорогая… когда его используют для высоких целей, — не без остроумия ответил ей, но прозвучало фальшиво, я сам это понял. Тогда решил начать по-другому, с маленькой лжи. — Тебя ждал!
— Как же, говори!.. Неужели ты не понимаешь, что я тебя насквозь вижу!
— Я настолько элементарен?
Она, не отвечая, махнула Теофану Градскому, и тот, давно усвоивший вкусы всех в бригаде, принес ей коньяк.
— За твое здоровье! — подняла рюмку Верча. — О, вы даже не пьете в ее отсутствие, любимый! — и выпила до дна. — По правде говоря, ты удивительный болван, мой мальчик.
— Нечто подобное я уже слышал от тетушки Стаменки, — пытался отшутиться я. — Давеча, когда отлупил Андона Рыжего, а деньги отдал жене, остатки от его получки.
— И что же она сказала?
— Да примерно то же. «Тебе, — говорит, — товарищ инженер, не к лицу на людях драться. Не обижайся, — говорит, — но ты совсем не похож на инженера…»
— Ты кристально ясен, голубчик, в тебе нет нюансов. И не умеешь хитрить.
— Перед тобой? Я сказал тебе правду.
— Ты все сказал. Я шла сюда, чтобы отвесить тебе пару пощечин!
— Что ж ты этого не сделала?
— Потому что ты не как другие мужчины: если бы я тебя ударила, ты бы, пожалуй, избил меня?
— Пожалуй! — усмехнулся Васко. — Почему ты не пришла вчера?
— Потому что накануне, если ты помнишь, ты сам прогнал меня.
— Приходи сегодня.
— Ну уж нет.
— Что так?
— Не хочу быть в положении той страхолюдины, чей муж очень любил балет…
— Чего-чего?
— Есть такой анекдот: один мужик очень любил смотреть балет, а когда потом ложился с женой, все воображал, что с ним балерина!
— Глупости! — почти разозлился Васко.
— Нет, не глупости! Ты лежишь со мной, а думаешь о своей докторше!
— Но я не виноват, я мог бы не говорить тебе о ней. Ты — единственный человек здесь, который знает. Шесть лет я носил это в своей душе, шесть лет!
— Ладно! Носи еще шестьдесят, если хочешь! Но со мной тогда зачем занимаешься?
— Я думал, ты можешь меня понять.
— Дудки! Я — женщина… И самое идиотское то, что он меня бросил, а я должна его понять… Наверно, потому, что мы с тобой одного поля ягоды, верно? Раньше у меня со многими было так: они меня любили, а я была холодна и безразлична! А сейчас! Ты на моем месте, а я… Ладно, как знаешь! — Она вертела в руках пустую рюмку. — Что ты можешь понять? Ведь я же сказала, что ты болван. Прямой и искренний, черт возьми, тебе нельзя не верить… А вот и они! — Она повернулась и вскочила. Васко схватил ее за руку:
— Останься!
— В качестве закуски к вашему ужину? Не стоит! Теофан Градский подаст вам луканку!.. Чао!
От соседнего столика ее окликнули, но она, накинув на голову плащ, выбежала на улицу. Динко бросился догонять ее.
У стола стояли Эвелина и Горанчев, все еще держась под руку. Васко пришел в себя, галантно поздоровался, поцеловав руку даме — как каждый вечер, обменялся рукопожатием с ее мужем и пригласил их за стол. Горанчев отодвинул стул, усадил жену, потом отставил в сторонку раскрытый зонтик.
— Отвратительная погода! — сказала Эвелина, чтобы начать разговор. Горанчев отошел к буфету и зашептал что-то Теофану. Васко использовал момент, когда пастух оставил свою овечку, и сразу перешел в атаку.
— Как бы нам остаться одним, хотя бы на час? Столько лет…
— Нужно ли, Васко?
— Мне — очень. Больше, чем нужно!
— Не стоит. Что может нам дать одна случайная встреча? Тем более сейчас… У меня столько забот, все так сложно… Он настоял, чтобы я приехала в дом отдыха, непременно сюда, к нему…
— А что, ты не хотела?
— В другой раз, Васко, в другой раз! — Она тревожно смотрела в сторону буфета.
— Я приду к тебе в дом отдыха, когда его не будет!
— Не надо.
— Приду!
Горанчев вернулся к столику, одаривая по пути улыбками и приветствиями рабочих и знакомых отпускников.
— Эви, надеюсь, коллега Петринский не позволил тебе скучать? — Он обнял ее за плечи, как бы лаская, от чего ее передернуло.
Пошел обычный светский разговор. Горанчев пускал в ход все свое остроумие, сыпал афоризмами и каламбурами, всякий раз спрашивая у жены подтверждения сказанному: «Правда, Эви?», «Не так ли, Эви?», «Помнишь, Эви!» Жена послушно кивала, но одного взгляда было достаточно, чтобы прочесть на ее лице с трудом скрываемую досаду.
Они уже собирались вставать, когда под навесом павильона появился Горский. Задыхаясь от бега, он сказал:
— Мост… на тридцать первом километре… От него ничего не осталось!.. Вода так поднялась, что начались обвалы. Вода сорвала мост, бьет в одну сторону, бьет и тащит за собой, так что и подходы к мосту размыты на полсотни метров.
— Бежим! — вскочил Васко.
— Куда? — в один голос спросили супруги.
— К мосту! — крикнул он уже снаружи, с дороги.
— Петринский, погоди! Не сходи с ума! Туда больше часа!
Васко бежал впереди, дядюшка Крум едва поспевал за ним. Дождь продолжал идти — ровный, холодный. Мужчины неслись вниз, не сознавая, что это сейчас ни к чему, что теперь уже река возьмет свое, а они смогут что-либо сделать только после того, как спадет вода.
Добрались. Он выхватил из руки Горского фонарь и сам осмотрел все. Потом стоял, ошалевший и осипший, подавленный и до того ничтожный перед этой бушующей