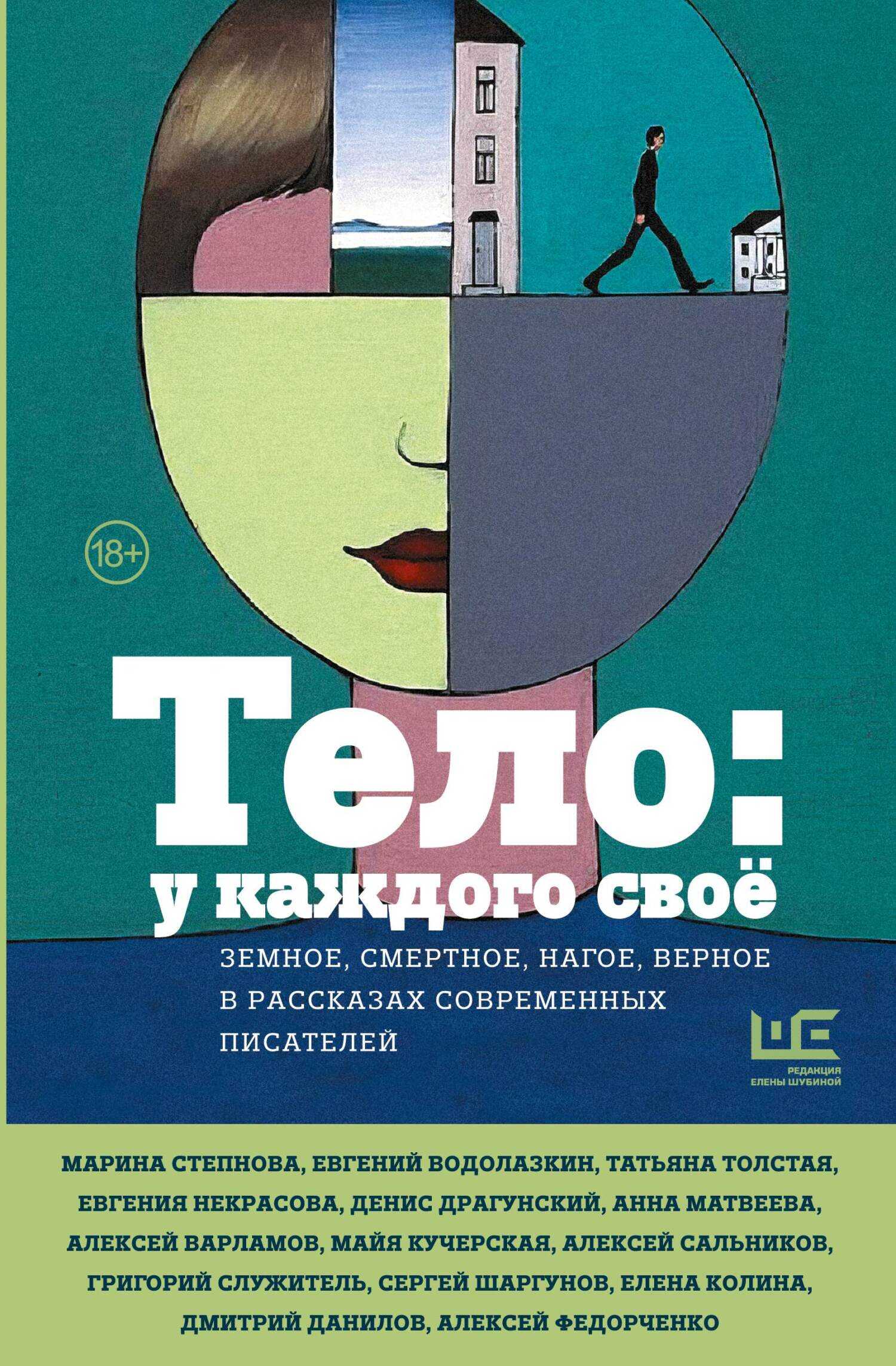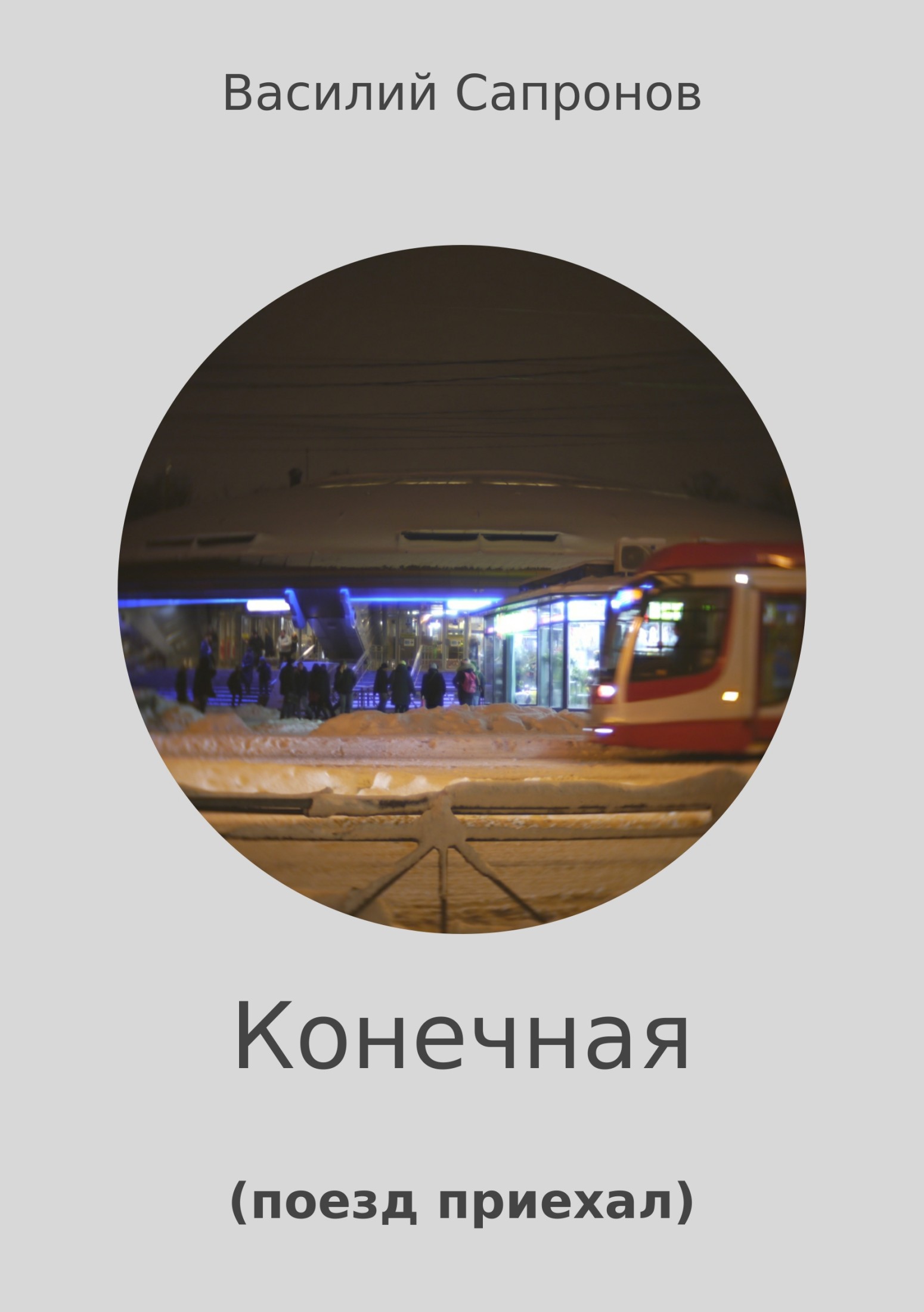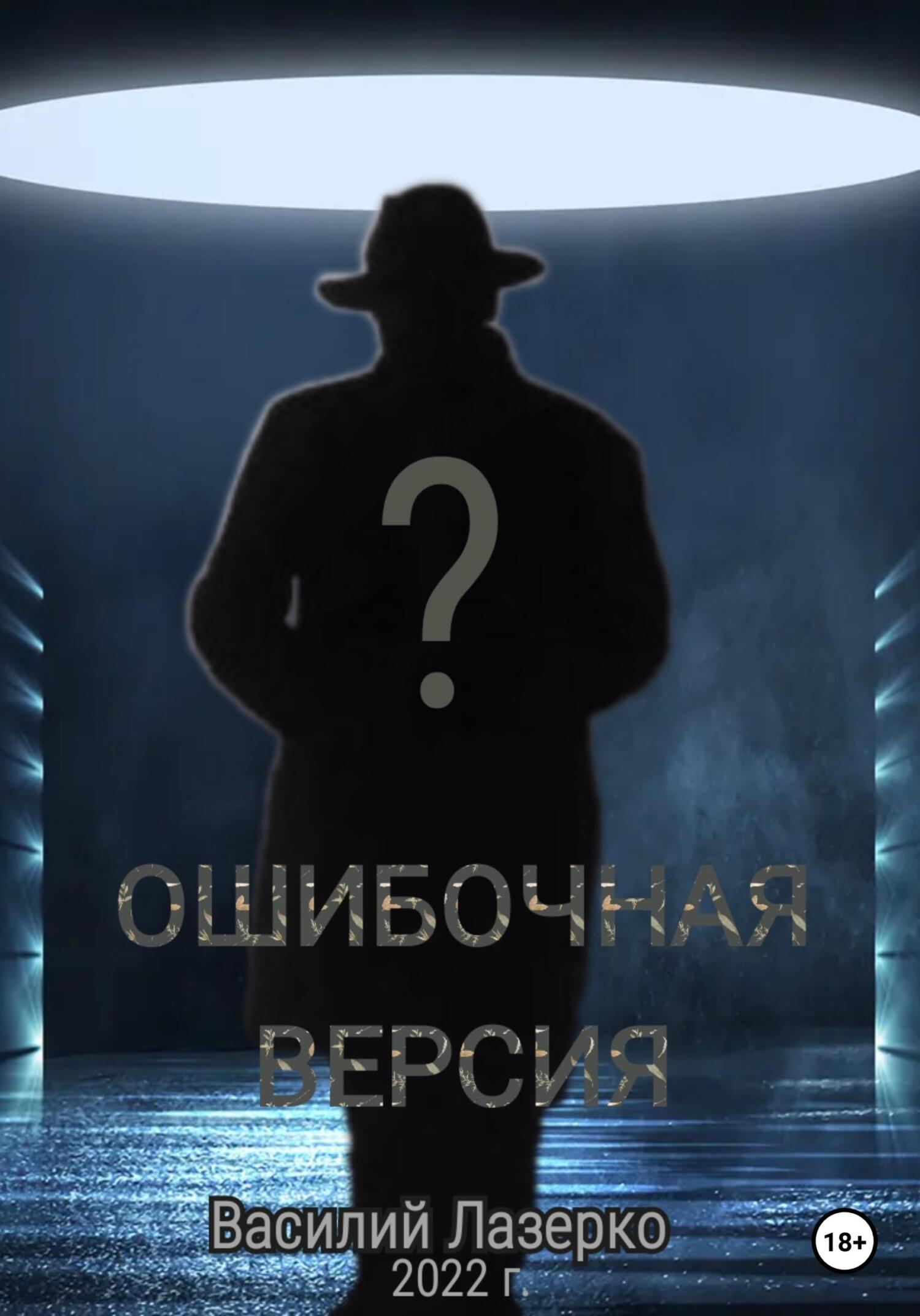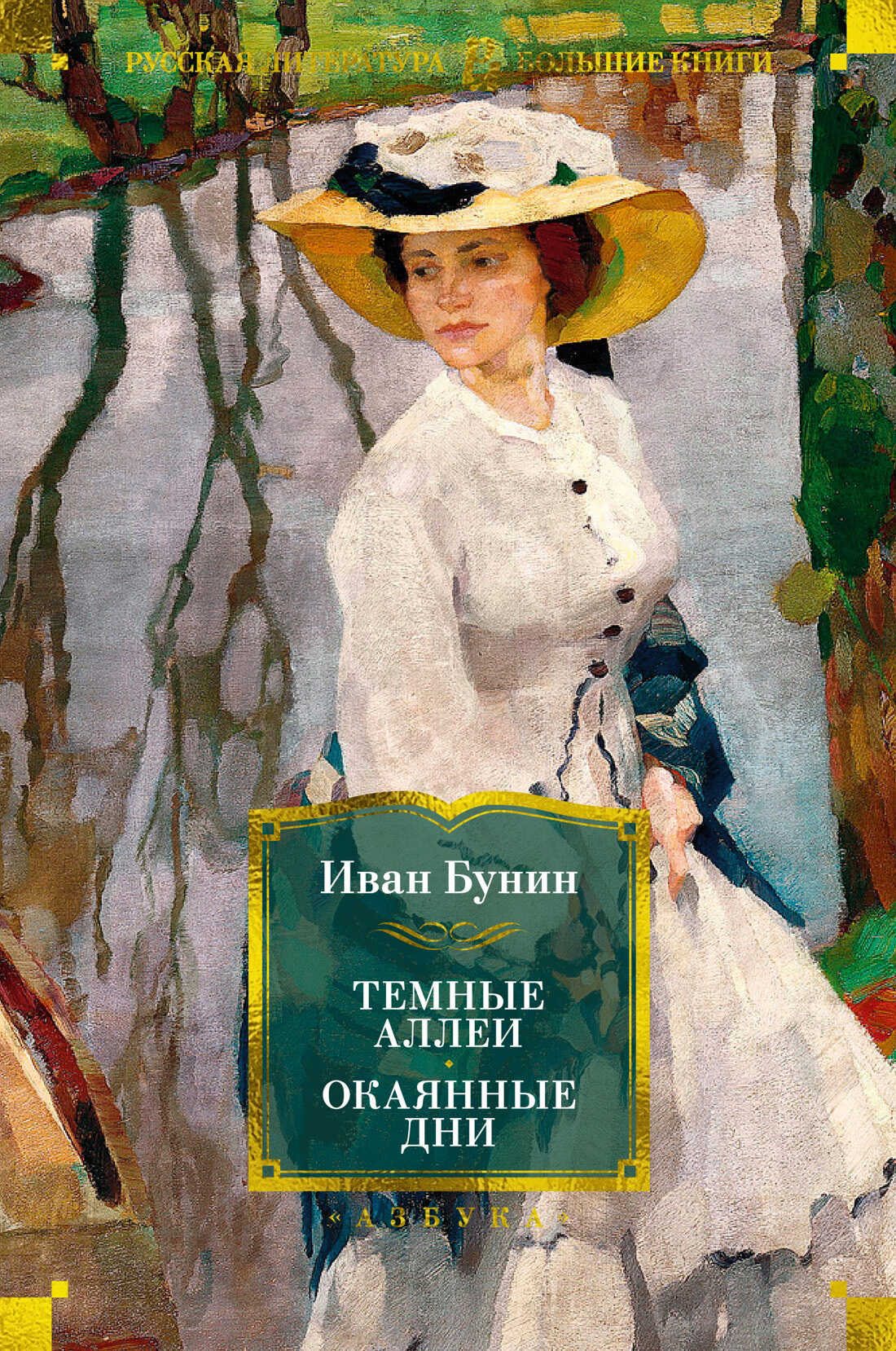верю, «святые» победят.
Р. Р. Р. Р. S. Лучшие люди, каких я встречал, – нет, каких я нашел в жизни: «друг», великая «бабушка» (Ал. Андр. Руднева), «дяденька», Н. Р. Щербова, А. А. Альбова, свящ. Устьинский, – все были религиозные люди; глубочайшие умом Флоренский, Рцы – религиозны же. Ведь это что-нибудь да значит? Мой выбор решен.
Молитва – или ничего.
Или:
Молитва – и игра.
Молитва – и пиры.
Молитва – и танцы.
Но в сердцевине всего – молитва.
Есть «молящийся человек» – и можно все.
Нет «его» – и ничего нельзя.
Это мое «credo» – и да сойду я с ним в гроб.
Я начну великий танец молитвы. С длинными трубами, с музыкой, со всем: и все будет дозволено, потому что все будет замолено. Мы все сделаем, потому что после всего поклонимся Богу. Но не сделаем лишнего, сдержимся, никакого «карамазовского»: ибо и «в танцах» мы будем помнить Бога и не захотим огорчить Его.
«С нами Бог» – это вечно.
* * *
Торг, везде торг, в литературе, в политике, – торг о славе; торг о деньгах; а упрекают попов, что они «торгуют восковыми свечами» и «деревянным маслом». Но у этих «торг» в одну десятую и они не образованны; а у светских в девять десятых, хотя они и «просвещены».
(13 декабря 1911 г.)
* * *
Почему я так сержусь на радикалов?
Сам не знаю.
Люблю ли я консерваторов?
Нет.
Что со мною? Не знаю. В каком-то недоумении. (14 декабря 1911 г.)
* * *
26-го августа 1910 г. я сразу состарился.
20 лет стоял «в полдне». И сразу 9 часов вечера. Теперь ничего не нужно, ничего не хочется. Только могила на уме.
(14 декабря 1911 г.)
* * *
Никакого интереса в будущем.
Потому что никакого интереса уж не разделит «друг».
Интерес нужен «вдвоем»: для одного – нет интереса.
Для «одного» – могила.
(14 декабря 1911 г.)
* * *
Действительно, я чудовищно ленив читать. Напр., Философова статью о себе (в сборнике) прочел первую страницу; и только этот год, прибирая книги после дачи (пыль, классификация) – наткнулся, раскрыл и прочитал, не вставая с полу, остальное (много верного). Но отчего же, втайне, я так мало читаю?
Тысяча причин; но главная – все-таки это: мешает думать. Моя голова, собственно, «закружена», и у меня нет сил выйти из этой закруженности.
Я жадно (безумно) читал в гимназии: но уже в университете дальше начала книг «не ходил» (Моммзен, Блюнчли).
Собственно, я родился странником; странником-проповедником. Так в Иудее, бывало, «целая улица пророчествует». Вот я один из таких; т. е. людей улицы (средних) и «во пророках» (без миссии переломить, напр., судьбу народа). «Пророчество» не есть у меня для русских, т. е. факт истории нашего народа, а – мое домашнее обстоятельство, и относится только до меня (без значения и влияния); есть частность моей биографии.
Я решительно не могу остановиться, удержаться, чтобы не говорить (писать): и все мешающее отбрасываю нетерпеливо (дела житейские) или выраниваю из рук (книги).
Эти говоры (шепоты) и есть моя «литература». Отсюда столько ошибок: дойти до книги и раскрыть ее и справиться – для меня труднее, чем написать целую статью. «Писать» – наслаждение; но «справиться» – отвращение. Там «крылья несут», а тут – должен работать; но я вечный Обломов.
И я утешался в этом признанном положении, на которое все дали свое согласие: что ведь вообще «мир есть мое представление». По этому тезису я вовсе не обязан «справляться» и писать верно историю или географию: а писать – «как мне представляется». Не будь Шопенгауэра, мне, может, было бы стыдно: а как есть Шопенгауэр, то мне «слава Богу».
Из Шопенгауэра (пер. Страхова) я прочел тоже только первую половину первой страницы (заплатив 3 руб.): но на ней-то первою строкою и стоит это: «Мир есть мое представление».
– Вот это хорошо, – подумал я по-обломовски. – «Представим», что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно.
(14 декаб. 1911)
* * *
Могила… знаете ли вы, что смысл ее победит целую цивилизацию…
Т. е. вот равнина… поле… ничего нет, никого нет… И этот горбик земли, под которым зарыт человек. И эти два слова: «зарыт человек», «человек умер» своим потрясающим смыслом, своим великим смыслом, стонающим… преодолевают всю планету, – и важнее «Иловайского с Атиллами».
Те все топтались… Но «человек умер», и мы даже не знаем – кто: это до того ужасно слезно, отчаянно… что вся цивилизация в уме точно перевертывается, и мы не хотим «Атиллы и Иловайского», а только сесть на горбик и выть на нем униженно, собакою…
О, вот где гордость проходит. Проклятое свойство. Недаром я всегда так ненавидел тебя.
(14 декабря 1911)
* * *
Как-то везут гроб с позументами, и толпа шагает через «мокрое» и цветочки, упавшие с колесницы: спешат, трясутся. И я, объезжая на извозчике и тоже трясясь, думал: так-то вот повезут Вас. Вас-ча; живо представилось мне мое глуповатое лицо, уже тогда бледное (теперь всегда красное) и измученные губы, и бороденка с волосенками, такие жалкие, и что публика тоже будет ужасно «обходить лужи», и ругаться обмочившись, а другой будет ужасно тосковать, что нельзя закурить, и вот я из гроба ужасно ему сочувствую, что «нельзя закурить», и не будь бы отпет и вообще такой официальный момент, когда я «обязан лежать», то подсунул бы ему потихоньку папироску.
Знаю по собственному опыту, что именно на похоронах хочется до окаянства курить…
И вот везут-везут, долго везут: – «Ну, прощай, Вас. Вас., плохо, брат, в земле; и плохо ты, брат, жил: легче бы лежать в земле, если бы получше жил. С неправдой-то…»
Боже мой: как с неправдой умереть.
А я с неправдой.
(14 декаб. 1911)
* * *
Да: может быть, мы всю жизнь живем, чтобы заслужить могилу. Но узнаем об этом, только подходя к ней: раньше «и на ум не приходило».
(14 декаб. 1911)
* * *
Шестьдесят раз только, в самом счастливом случае, я мог простоять в Великий Четверток «со свечечками» всенощную: как же я мог хоть один четверг пропустить?!!
Боже: да и Пасох шестьдесят!!! Так мало. Только шестьдесят Рождеств!!! Как же можно из этого пропустить хоть одно?!!
Вот основание «ходить в церковь» и «правильного круга жизни», с родителями, с женой, с детьми.
Мне вот пятьдесят четыре: а я едва ли был двенадцать раз «со свечечками».
И все поздно: мне уже пятьдесят шесть лет!
(14 декаб. 1911)
* * *
Как пуст мой «бунт против христианства»: мне надо было хорошо жить, и