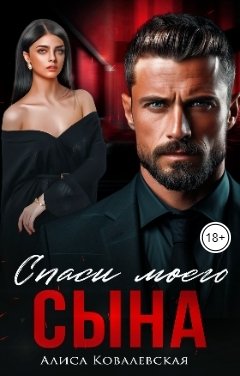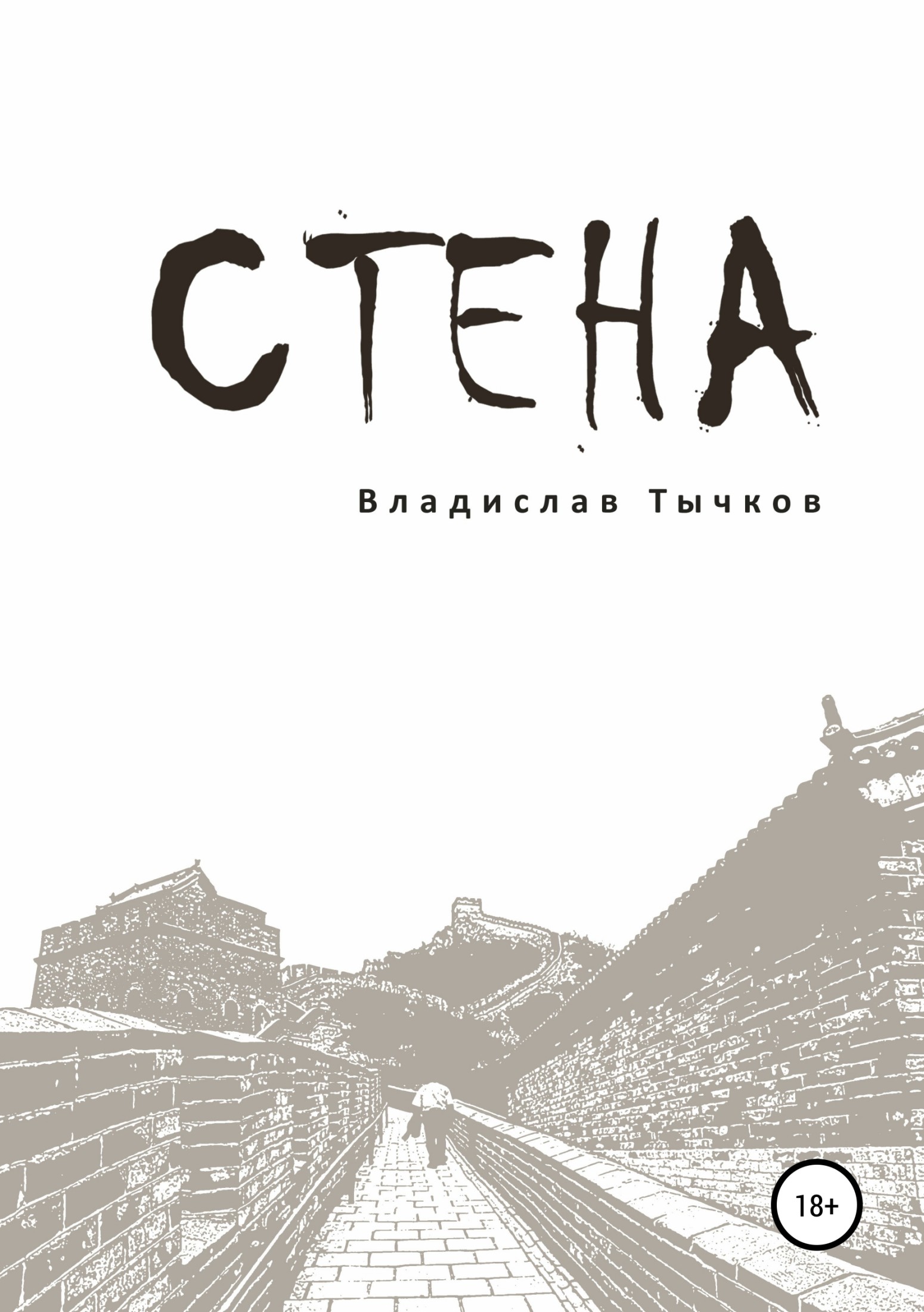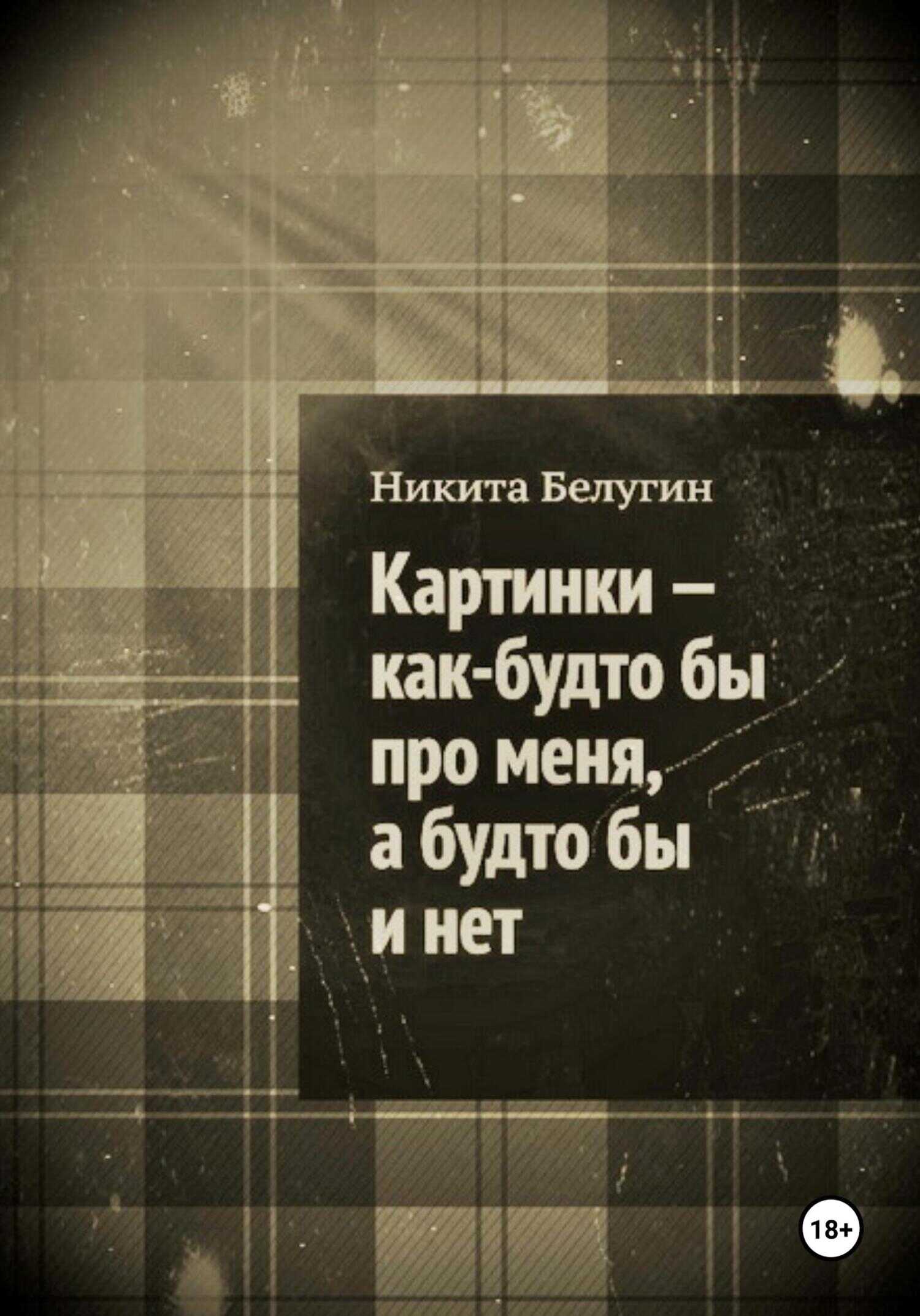унималась Светлана. — Вы верующий?
— Не особо, — сказал Котлер. — В последний раз я молился много лет назад. Но кто знает, как долго наша молитва идет до Бога? И как быстро Он на нее отзывается? В тюрьме я просил Его дать мне возможность выйти на свободу и встретиться лицом к лицу со своими палачами. Это было давно. Но, возможно, молитва — как радиосигнал, летит сквозь пространство, пока не достигнет цели. А ответ приходит не когда ты в нем нуждаешься, а когда угодно Богу, когда ты, может, и ждать ответ давно перестал.
— А может, Бог ответил сразу и на мою, и на вашу молитвы?
— Думаю, даже для Бога это слишком сложная задача.
У Котлера зазвонил телефон. Он выудил его из кармана и уставился на высветившееся на экране имя.
— Это мой сын, — сказал Котлер. — Прошу меня извинить.
Он вышел из-за стола, отошел на пару шагов и лишь тогда поднес телефон к уху. Произнес имя сына и услышал в ответ его голос. На заднем плане раздавался лязг тяжелой техники, рев дизельных двигателей, гул полугусеничных машин.
— Секунду, Бенька, — сказал Котлер. — Сейчас, я только…
Он прошел в их с Лиорой комнату, закрыл дверь. И, подойдя к окну, выглянул в знакомый сонный двор. Не так он рисовал себе будущее своего молодого сына. Слово «молодой» как-то само выскочило. Они поручают молодым парням — хмурым детям, с нескладными руками и ногами, с гладкими еще щеками — выполнять эту паскудную работу. Уничтожать то, что построили их братья, и выгонять их. Как будто при этом можно по-прежнему продолжать думать, что они друг другу братья. Верить, что все это служит высшему благу. Благу всеобщему — и тех, кто блюдет порядок, и тех, кто оказывает сопротивление, и всех тех — несть им числа, — кто сидит перед телевизором и заламывает руки. Вей из мир[10], как сказал бы его отец. Куда катится этот мир?
— Я собирался тебе позвонить, — сказал Котлер. — Ждал семи часов.
— Нас перебрасывают. Некоторые из наших до сих пор читают шахарит[11]. Но они могут молиться, лишь пока командиры не скомандуют отбой.
— Занятой денек у Бога. Так много молитв надо уважить.
— Не так уж и много, — ответил Бенцион. — Недостаточно.
— Как ты, Бенька? — заботливо спросил Котлер.
— Прекрати сюсюкать, — сказал Бенцион. — Я не за этим позвонил. Об этом я говорить не хочу.
Голос Бенциона дрогнул, и Котлер ощутил то же, что ощущал, когда сын был маленьким и кто-нибудь его обижал. Желание утешить, данное природой. Но сын уже вырос и в его утешении не нуждался. Да и обидел его на этот раз сам Котлер. Тогда какой сыну прок от его сочувствия?
— Я говорил с рабби Гедальей и кое с кем из парней, — продолжал Бенцион. — Мы не хотим в этом участвовать.
— Понимаю, Бенцион. Чудовищно и ужасно, что на это отрядили вас. Всем сердцем хочу, чтобы до этого не дошло. Ты звонишь, чтобы сообщить о своем решении или чтобы посоветоваться?
— Скажи, почему я должен это делать?
— Никакого откровения ты от меня не услышишь. Ты солдат армии нашего народа. Я могу лишь повторить то, что говорят твои командиры и министр обороны. И хотя я крайне не одобряю эту операцию, я все равно считаю, что обязанность солдат — выполнять приказы.
— Даже аморальные?
— Аморальные — нет. Но в Женевском соглашении ничего не сказано о том, что нельзя разрушать собственные поселения.
— Это сказано в Торе.
— Думаю, что и в Торе не сказано. Но, сам знаешь, я тот еще знаток Торы. В любом случае это к делу не относится. Нравится тебе это или нет, но у нас демократическая страна. Тора — это прекрасно, но страной мы управляем не по Торе. И похоже, по Торе никто никогда не управлял.
— Рабби Гедалья считает иначе.
— Кто бы сомневался.
— И не он один, а многие другие.
— Что ж, наберете большинство — сможете сформировать следующее правительство.
— Так что? Считаешь, я должен с этим смириться, даже если меня от этого с души воротит? Даже если я искренне верю, что это неправильно, что это грех против Господа — отдавать нашу землю? Скажи мне честно, а сам ты бы так поступил?
— Бенька, если тебе нужно, чтобы я тебя благословил, то ты этого не дождешься. Я бы с радостью, конечно. После того, что случилось, после того, как я поступил, мне бы очень хотелось выполнить твою просьбу. Но как бы я тебя ни любил, как бы ни хотел тебя порадовать, я не могу тебе лгать, сын. Я люблю тебя и именно поэтому не могу тебе лгать.
— Ты уже солгал.
— Ложь лжи рознь.
— Это ты так считаешь.
— Таков твой отец — отнюдь не идеал.
— И это все, что ты можешь мне сказать?
— Ты спрашиваешь, как бы я поступил на твоем месте. Задам тебе встречный вопрос. Что станет с нашей армией и нашей страной, если солдаты начнут решать, какие приказы выполнять, а какие нет? Одни считают, что разрушать поселения неправильно, другие считают, что они незаконно заняли эту землю.
— Значит, мы должны идти против своей совести и просто ждать следующих выборов? Разве так ты поступал в Советском Союзе?
— Что бы кто ни говорил, но сравнивать Израиль с Советским Союзом еще рановато.
— Я не об этом. Я говорю о душе. Когда у человека душа кричит: нет! Что тогда ему делать? Не обращать внимания? Если ты видишь, что твоя страна катится в пропасть, ты не станешь ничего предпринимать? Ведь потом может стать слишком поздно.
— Ты так считаешь?
— Ты сам так говорил.
— Я говорил как политик, а не солдат. А это не одно и то же.
— Не вижу большой разницы.
— Что тут скажешь, Венька? Поступай, как считаешь нужным.
— И ты не поддержишь меня?
— Если ты нарушишь приказ, нет. Прости.
— Но говорю же тебе, у меня нет выбора.
— Неправда. Когда кажется, что выбора нет, просто присмотрись получше. Выбор есть всегда. И третий вариант найдется, и даже четвертый. Хватит ли нам духу сделать этот выбор — дело другое. И я тут грешен не менее кого угодно.
Одиннадцать
Лиора и Светлана смотрели в глубь коридора, где скрылся Котлер. Обе ощущали неловкость, сидели, уставившись в одну точку. Сказать друг другу было нечего, а деваться — некуда. Лиора обвила пальцами чашку, смотреть на Светлану она избегала. Если нужно, она могла сидеть так часами. Сколько раз ей